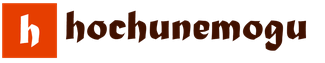Современные проблемы науки и образования. Современные проблемы науки и образования Другие книги схожей тематики
Классическая работа 1957 года известного французского феноменолога посвящена образам пространств, их месту и функционированию в литературе и искусстве – от трактатов Ямвлиха и эссеистики Бодлера до романов Виктора Гюго и картин Ван Гога. «Поэтика пространства» – одно из самых лирических исследований феномена дома. Башляр приглашает нас в путешествие от подвала до чердака, чтобы показать, как восприятие жилища и других укрытий формируют наши мысли, воспоминания и мечты. Спустя десять лет после первого русского издания книга выходит в новом переводе Нины Кулиш.
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»
Gaston Bachelard
La poétique de l"espace
© Presses Universitaires de France, 1957
© Кулиш Нина, перевод, 2014
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/ IRIS Foundation, 2014
Введение
Философ, вся система взглядов которого сложилась под воздействием фундаментальных тем философии науки, который так последовательно, как он только смог, придерживался линии активного рационализма, линии неуклонно возрастающего рационализма современной науки, должен стереть из памяти свое знание, отбросить все свои навыки философских исследований, если он вознамерится изучать круг проблем, связанных с поэтическим воображением. В этой области весь его культурный багаж будет бесполезным; длительная работа по согласованию мыслей и созданию мыслительных конструкций, работа, занимавшая иногда неделю, а иногда и месяц, не даст никакого результата. Надо быть очевидцем, очевидцем образа в самую минуту его появления: если существует некая философия поэзии, эта философия должна рождаться и возрождаться по велению некоей звучной стихотворной строки, в абсолютном слиянии с неким отдельно взятым образом, а точнее говоря, из восторга, вызванного новизной этого образа. Поэтический образ – внезапно возникающая рельефная выпуклость на ровном фоне обычной психической деятельности, явление, мало изученное в системе психологических причинных связей низшего порядка. Никакое общее и повсеместно согласованное правило также не может стать основой для философии поэзии. Понятие принципа, понятие «основы» стало бы в данном случае губительным. Оно свело бы на нет всю актуальность, всю психическую новизну стихотворения. Если философская мысль, рассматривая какую-либо долго и тщательно разрабатывавшуюся научную теорию, должна требовать, чтобы новая идея вписывалась в круг уже испытанных идей, пусть даже круг этот, из-за появления новой идеи, придется подвергнуть кардинальному пересмотру, как это происходит при любых революциях в современной науке, – то философия поэзии должна признать, что у произведения поэтического искусства нет прошлого, или, по крайней мере, недавнего прошлого, изучая которое мы могли бы отследить этапы его подготовки и самое появление на свет.
Когда в дальнейшем нам случится упомянуть о связи нового поэтического образа с неким архетипом, дремлющим в глубине бессознательного, придется разъяснить, что связь эта не является причинной в точном смысле слова. Поэтический образ не подчиняется давлению извне. Он не может быть отзвуком прошлого. Скорее наоборот: сила образа пробуждает отзвуки в далеком прошлом, и трудно даже сказать, насколько далеко будут они отдаваться и как скоро смолкнут. Благодаря своей новизне, своей активности поэтический образ обретает самостоятельное существование, самостоятельную динамику. Он имеет непосредственную онтологию . Именно эту онтологию нам и предстоит рассмотреть.
Итак, не в причинности, а, напротив, в воздействии , так замечательно изученном Минковским, мы, как нам кажется, нашли истинные критерии, по которым следует судить о бытии поэтического образа. В этом воздействии поэтической образ обретет бытийную звучность. Поэт высказывается на пороге бытия. Таким образом, чтобы определить бытие образа, нам придется испытать на себе, говоря в стиле феноменологии Минковского, его воздействие.
Сказать, что поэтический образ выпадает из причинных связей, значит сделать весьма серьезное заявление. Однако причины, приводимые психологом и психоаналитиком, не в состоянии объяснить нам весьма неожиданный характер только что рожденного образа, равно как и сопереживание, которое этот образ рождает в душе, непричастной к процессу его создания. Поэт не сообщает мне предысторию созданного им образа, но этот образ сразу же укореняется в моей душе. Возможность приобщения к самобытному образу – факт, имеющий чрезвычайно важное онтологическое значение. Мы приобщаемся к нему снова и снова, посредством коротких, единичных и активных действий. Образы влекут за собой – задним числом, – не будучи сами проявлением вовлеченности. Конечно, при исследованиях в психологии можно воспользоваться методами психоанализа, чтобы охарактеризовать личность поэта, можно также установить, насколько сильному влиянию – а в особенности давлению – тот или иной поэт подвергался в течение своей жизни, но поэтическое творчество, внезапно возникающий образ, вспышка бытия в царстве воображения ускользают от таких разысканий. Чтобы осветить с философских позиций проблему поэтического образа, надо прибегнуть к феноменологии воображения. Мы подразумеваем под этим изучение феномена поэтического образа, когда образ возникает в сознании как непосредственное порождение сердца, души, бытия человека, захваченного в реальный момент своей жизни.
Возможно, нас спросят, почему, изменив нашу прежнюю точку зрения, мы теперь стремимся найти феноменологическое определение образов. Действительно, в наших предыдущих работах, посвященных воображению, мы сочли более целесообразным исследовать, настолько объективно, насколько это возможно, образы четырех стихий, четырех принципов всех наглядных космогоний. Оставаясь верными нашим привычкам философа, изучающего научные дисциплины, мы попытались исследовать образы без какой-либо попытки их личной интерпретации. Но мало-помалу этот метол, привлекательный своей истинно научной осмотрительностью, стал казаться мне не вполне подходящим для того, чтобы заложить основы некоей метафизики воображения. Разве «осмотрительный» подход как таковой не представляет собой отказ повиноваться спонтанной динамике образа? К тому же мы успели узнать, как трудно бывает отрешиться от этой «осмотрительности». Легко сказать, что ты решил сменить привычки в своей интеллектуальной деятельности, но как осуществить это на деле? Для рационалиста такая перемена выливается в маленькую повседневную драму, своего рода дуализм мышления, который, при всей фрагментарности осмысляемого объекта – ведь это всего лишь образ, – тем не менее становится суровым испытанием для психики. Но в этой маленькой культурной драме, драме на скромном уровне своего виновника – нового, только что рожденного образа, – уместился весь парадокс феноменологии воображения: как некий образ, единичный и обособленный, может казаться результатом сосредоточенной работы всей психики? И почему такое единичное и мимолетное событие, как рождение единичного поэтического образа, может воздействовать – без всякой подготовки – на души и сердца других людей, преодолевая все заслоны здравого смысла, опровергая все доводы благоразумия, так гордящиеся своей незыблемостью?
И тогда нам представилось, что сущность этой транссубъективности образа невозможно понять при помощи одних лишь привычных нам объективных референций. Только феноменология – то есть рассмотрение факта возникновения образа в индивидуальном сознании – может помочь нам восстановить объективность образов и измерить охват, силу и смысл его транссубъективности. Всем этим случаям объективности и транссубъективности нельзя дать определение раз и навсегда. В самом деле, поэтический образ по сути своей вариативен. В отличие от концепта он не является конститутивным . Конечно, отследить изменяющее воздействие поэтического воображения в подробностях изменчивых поэтических образов – работа хоть и однообразная, но тяжелая. Если мы призовем человека, читающего стихи, обратиться к учению, которое называют «феноменология» (а это название часто понимают неправильно), наш призыв вряд ли будет услышан. Но давайте оставим в стороне всевозможные учения, и тогда смысл призыва станет понятным: мы просим читателя стихов не воспринимать образ как объект, и уж тем более – не как заменитель объекта, но уловить его специфическую реальность. Для этого надо систематически ассоциировать творческий акт сознания с самым недолговечным продуктом сознания: поэтическим образом. На уровне поэтического образа двойственность субъекта и объекта становится мерцающей, переливчатой, подверженной беспрестанным инверсиям. В сфере создания поэтом поэтического образа феноменология превращается, если можно так сказать, в микрофеноменологию. В результате такая феноменология получает шанс стать строго элементарной феноменологией. Образ – слияние чистой, но мимолетной субъективности с реальностью, никогда не достигающей структурной законченности: здесь перед феноменологом открываются бесконечные возможности для экспериментов; он использует наблюдения, которые могут быть точными, потому что они просты, потому что они «не приводят к последствиям», как научные идеи, которые всегда несвободны. Образ в своей простоте не нуждается в знании. Он – преимущество наивного сознания. В своем выражении он – первозданная речь. Поэт благодаря новизне своих образов всегда стоит у истоков речи. Дабы определить, какой может быть феноменология образа, определить, что образ предшествует мысли, следовало бы сказать, что поэзия – не столько феноменология духа, сколько феноменология души. И тогда нам пришлось бы собирать документальные данные о грезящем сознании.
Философия современного французского языка, а тем более психология, почти не используют в своей практике сходство и различие понятий, обозначаемых словами «душа» и «дух». Вот почему обе эти науки остаются глухими к темам, которые столь часто встречаются в немецкой философии и в которых различие между духом и душой (der Geist и die Seele) выявлено с такой четкостью. Но раз уж философия поэзии должна иметь в своем распоряжении все богатства словаря, она ничего не должна упрощать, ничего не должна огрублять. Для такой философии дух и душа – не синонимы. Если мы сочтем их синонимами, то не сможем понять чрезвычайно важные тексты, исказим смысл документов, которые предоставила нам археология образов. Слово «душа» – бессмертное слово. Из некоторых стихотворений его удалить просто невозможно. Оно как дыхание. Звучание слова уже само по себе должно привлекать внимание феноменолога поэзии. Слово «душа» в поэзии может быть произнесено с такой убежденностью, что из этого вырастет целая поэма. Итак, перечень поэтических тем, соответствующих душе, должен оставаться открытым для наших феноменологических исследований.
Даже в области живописи, где выполнение поставленной задачи, по-видимому, требует диктуемых духом решений, связанных с законами восприятия, феноменология души может найти зародыш нового творения. В замечательной статье, посвященной выставке картин Жоржа Руо в Альби, Рене Юг пишет: «Если бы надо было определить, что позволяет Руо опрокидывать существующие рамки и условности, пришлось бы вспомнить старое и редко употребляемое слово “душа”». Рене Юг объясняет нам: для того чтобы понять, почувствовать и полюбить творчество Руо, «надо броситься в самый центр, в сердце, в срединную точку, где все берет свое начало и обретает смысл, и тут мы встречаем забытое или презираемое слово “душа”». А душа – и живопись Руо это доказывает – обладает неким внутренним светом, который «внутреннее видение» узнает и воспроизводит в мире ярких красок, в мире солнечного света. Итак, тому, кто желает понять и полюбить живопись Руо, необходимо кардинально изменить психологические перспективы. Ему понадобится сопричастность к внутреннему свету, который не является отражением света, исходящего от внешнего мира; конечно, о случаях внутреннего видения, проблесках внутреннего света нам зачастую сообщают с чрезмерной готовностью. Но здесь с нами говорит живописец, творец сияющих красок. Он знает, из какого источника исходит свет. Ему знаком скрытый смысл увлечения красным цветом. В основе такой живописи – непокорная душа. Фовизм живет внутри человека. Значит, такая живопись – феномен души. Творчество должно стать искуплением мятущейся души.
Статья Рене Юга укрепляет в нас уверенность, что есть смысл говорить о феноменологии души. Во многих обстоятельствах нам следует признать, что поэзия – это труд души. Сознание, объединившееся с душой, не так беспокойно, не так проникнуто интенциональностью, как сознание, объединившееся с феноменами духа. В стихотворениях проявляются силы, которые не циркулируют по каналам знания. Диалектики вдохновения и таланта станут понятнее для нас, если мы будем рассматривать два их полюса: душу и дух. На наш взгляд, душа и дух необходимы для изучения феноменов поэтического образа в их разнообразных оттенках, в особенности для того, чтобы отследить эволюцию поэтических образов от мечтательного раздумья до осуществления. В другой нашей работе мы рассмотрим мечтательное раздумье как феноменологию души. Мечтательность сама по себе есть психическое состояние личности, которое слишком часто путают со сном. Но когда мы имеем дело с поэтической мечтательностью, с мечтательностью, которая не только наслаждается собственным состоянием, но и обещает поэтические наслаждения другим душам, понятно, что обычная сонная истома тут ни при чем. Духу свойственны моменты отдохновения, но душа, объятая поэтической грезой, бодрствует без всякого напряжения, умиротворенная и деятельная. Чтобы создать стихотворение, законченное, тщательно структурированное, нужно, чтобы дух заранее спланировал его в общих чертах. Но у простого поэтического образа не существует плана, для него потребуется лишь душевный порыв. Душа заявляет о себе в поэтическом образе.
Так поэт со всей ясностью ставит перед нами феноменологическую проблему души. Пьер-Жан Жув пишет: «Поэзия – это душа, открывающая для нас некую новую форму». Душа – первооткрыватель. Она становится созидающей силой. Она выражает сущность человека. Если даже эта «форма» уже была известна и освоена ранее, стала компонентой каких-либо «общих мест», все равно она была для духа не более чем простым объектом, пока ее не озарил внутренний свет поэзии. Но вот душа открывает форму, наполняет ее, ликует внутри нее. Итак, фразу Пьер-Жана Жува можно считать афористически ясной формулой феноменологии души.
Если феноменологическое исследование поэзии собирается зайти так далеко и заглянуть в такие глубины, оно по методологической необходимости должно проявить невосприимчивость к тем более или менее многообразным эмоциональным отзвукам – трудно сказать, зависит ли это многообразие от нас самих или от стихотворения, – которые обычно вызывает у нас произведение искусства. В этом случае нужно обратить внимание на пару психологических двойников: отзвук и отклик. Отзвуки распространяются в различных аспектах нашей жизни в этом мире, а отклик призывает нас задуматься о глубине нашей внутренней жизни. В отзвуке мы слышим стихотворение, в отклике мы даем ему наш голос, оно становится нашим. Отклик подменяет одно бытие другим. Кажется, что бытие поэта стало нашим бытием. Проще говоря, тут мы испытываем ощущение, знакомое всякому страстному любителю поэзии: стихотворение захватывает нас целиком. В таком воздействия поэзии мы безошибочно угадываем характерную феноменологическую черту. Буйство образов и глубина стихотворения всегда вызваны этими двойниками, отзвуком и откликом. Буйством образов стихотворение пробуждает в нас неизведанные глубины. А потому, чтобы описать психологическое воздействие стихотворения, нам придется двигаться по двум направлениям феноменологического анализа, к буйству духа и к глубинам души.
Само собой, – стоит ли об этом говорить? – отклик, несмотря на то, что его название является производным от другого слова, имеет первичный феноменологический характер в сфере поэтического воображения, где мы собираемся его изучать. В самом деле, отклик на единичный поэтический образ пробуждает в душе читателя ни более ни менее как способность к поэтическому творчеству. Своей новизной поэтический образ растормаживает лингвистическую активность человека. Поэтический образ возвращает нас к моменту, когда люди только научились говорить.
Под воздействием отклика, который мгновенно переносит нас по ту сторону психологии или психоанализа, мы чувствуем, как поэтическая мощь бессознательно поднимается внутри нас. Это после отклика мы начинаем ощущать отзвуки, отголоски чувств, эхо нашего прошлого. Но еще до того, как устроить бурю на поверхности, образ успел затронуть глубины. И это происходит в обычной читательской практике. Образ, который мы воспринимаем при чтении стихотворения, становится полностью нашим. Он укореняется в нас самих. Мы его восприняли, но у нас возникает поразительное ощущение, что мы могли бы создать его сами, что мы должны были создать его. Он делается новой сущностью нашего языка; превращая нас в то, что он выражает, он становится выражением нашего «я», иными словами, он – становление выразительной мощи и становление нашей сущности. Выразительная мощь превращается в сущность.
Это последнее замечание определяет уровень онтологии, на котором мы работаем. Вообще говоря, мы считаем, что всё собственно человеческое в человеке есть логос . Мы не в состоянии развивать нашу мысль в том временнóм пласте, который, предположительно, существовал до появления языка. Даже если этот тезис как будто бы отвергает некую глубокую онтологическую истину, пусть нам позволят взять его на вооружение, хотя бы в качестве рабочей гипотезы, вполне соответствующей характеру наших исследований о поэтическом воображении.
Итак, поэтический образ, событие логоса, для нас лично является новаторским. Мы уже не воспринимаем его как «объект». Мы чувствуем, что «объективная» критическая позиция убивает «отклик», принципиально отвергает глубину, в которой должен зарождаться первоначальный поэтический феномен. Что касается психолога, то он оглушен отзвуками, а потому стремится снова и снова описывать свои чувства. Что касается психоаналитика, то он не слышит отклик, поскольку очень занят – распутывает ворох своих интерпретаций. Вынужденный придерживаться своего метода, психоаналитик неизбежно интеллектуализирует образ. Понимание образа у него глубже, чем у психолога. Но это весьма специфическое, деформирующее «понимание». У психоаналитика поэтический образ всегда втиснут в контекст. Давая интерпретацию образу, психоаналитик переводит его на другой язык, который не является поэтическим логосом. И здесь уместно вспомнить итальянское выражение «traduttore – traditore» – «переводчик – предатель».
Итак, мы снова приходим ко все тому же выводу: новизна поэтического образа заставляет нас задуматься о творческом потенциале любого человека, наделенного даром слова. Благодаря этому потенциалу сознание человека, давшего волю своему воображению, естественно и просто становится первоисточником поэзии. Именно эту задачу – выявить у различных поэтических образов силу первоисточника – должна решить феноменология поэтического воображения в исследовании, посвященном воображению.
Ограничив наше исследование темой поэтического образа в его генезисе из чистого воображения, мы оставляем за рамками нашей работы проблему композиции стихотворения как сочетания множества различных образов. В процессе компоновки к делу подключаются сложные психологические элементы, связанные с более или менее далекой культурой и с литературным идеалом данной эпохи, а такие компоненты, бесспорно, должна изучать полноценная феноменология. Но столь обширная программа могла бы повредить чистоте несомненно первичных феноменологических наблюдений, которые мы хотим здесь представить. Настоящий феноменолог должен всегда помнить о скромности. Нам кажется, что даже простая ссылка на феноменологические возможности чтения, которые на уровне восприятия образа превращают читателя в поэта, уже отдает тщеславием. По нашему мнению, было бы нескромно приписывать себе самому эту способность – во время чтения соучаствовать в организованном и полноценном творческом процессе, относящемся ко всему стихотворению в целом. И уж тем более мы не можем претендовать на создание некоей синтетической феноменологии, которая смогла бы, как якобы могут некоторые психоаналитики, объять все творчество поэта. А стало быть, мы можем феноменологически «соответствовать» только на уровне отдельно взятых образов.
Но как раз эта малая толика тщеславия, это невинное тщеславие, испытываемое при простом чтении, тщеславие, которое подпитывается чтением в одиночестве, несомненно, имеет в себе в себе нечто феноменологическое, – если дело ограничивается простым чтением. В данном случае феноменолог не имеет ничего общего с литературным критиком, поскольку критик, как мы неоднократно указывали, выносит суждение о произведении искусства, которое не мог бы, или даже – о чем свидетельствуют его нелестные отзывы – не хотел бы создать сам. Литературный критик по определению – строгий читатель. Если вывернуть наизнанку слово «комплекс», которое от частого употребления обесценилось настолько, что вошло в лексикон государственных деятелей, то можно сказать, что литературный критик и преподаватель риторики, знающие всё и обо всем берущиеся судить, по собственной воле страдают комплексом превосходства. А вот для нас чтение – радость, потому что мы читаем и перечитываем только то, что нам нравится, испытывая при этом малую толику читательского тщеславия, смешанную с огромным энтузиазмом. Причем если обычное тщеславие разрастается до размеров порока, изменяющего личность, невинное читательское тщеславие, которое рождается от радостного приобщения к поэтическому образу, остается скрытым, незаметным. Оно живет в нас, простых читателях, для нас и только для нас. Это тщеславие местного значения. Никто не знает, что во время чтения в нас вновь оживает давняя мечта стать поэтом. Всякий читатель, хоть сколько-нибудь увлеченный этим занятием, в процессе чтения разжигает, а затем подавляет в себе желание стать писателем. Когда прочитанная страница слишком прекрасна, скромность подавляет это желание. Но потом оно возвращается. Так или иначе, всякий читатель, перечитывающий любимую книгу, знает, что любимые страницы затрагивают его. В замечательной книге Жан-Пьера Ришара «Поэзия и глубина» помимо других эссе есть две работы, одна о Бодлере, другая посвящена Верлену.
Бодлеру автор уделяет особое внимание, потому что, как он говорит, творчество этого поэта «нас затрагивает». Эссе о Верлене написано в совершенно другом тоне: с его поэзией, в отличие от поэзии Бодлера, не возникает полного феноменологического слияния. И так происходит всегда; при чтении некоторых произведений, вызывающих у нас наиболее сильное сопереживание, мы становимся «союзниками» автора. В «Титане» Жан-Поль Рихтер пишет о своем герое так: «Он читал хвалебные отзывы о великих людях с таким удовольствием, как будто сам был предметом этих панегириков». В любом случае сопереживание в чтении неотделимо от восхищения. Восхищение может быть более или менее сильным, но искренний душевный порыв, мгновенный всплеск восхищения необходим для того, чтобы поэтический образ стал для нас феноменологическим приобретением. Самое незначительное критическое замечание пресекает этот порыв, поскольку, прибегнув к помощи разума, отнимает у воображения его первичность. Восхищение выводит нас за рамки пассивного созерцания, и кажется, что радость чтения есть отражение радости творчества, как если бы читатель был призраком автора. По меньшей мере читатель разделяет с автором творческую радость, которую Бергсон считает главным признаком творчества. В данном случае акт творчества исполняется на натянутой проволоке фразы, за краткое мгновение, которое длится жизнь поэтического выражения мысли. Но это поэтическое выражение мысли, не будучи жизненно необходимым, все же является стимулятором жизни. Умение выражать свои мысли – часть умения жить. Поэтический образ в языке – это возвышенная точка на равнине, он всегда поднимается над смысловой рутиной языка. А стало быть, поэтическое переживание становится для нас целительным подъемом на высоту. Конечно, на сравнительно небольшую высоту. Но возвышенные точки возникают одна за другой: поэзия заставляет язык вздыбливаться. Это сама жизнь так живо заявляет о себе. Такие лингвистические порывы, выбивающиеся за рамки прагматической практики языка, – миниатюрные проявления жизненной энергии. Если бы возникло своеобразное микробергсонианство, которое отказалось бы от концепции языка-инструмента и предпочло ей тезис о языке-реальности, такое учение нашло бы в поэзии массу фактов из актуальной жизни языка.
Так, помимо наших знаний о жизни слов, какой она представляется нам в эволюции языка за несколько столетий, поэтический образ представляет нам, пользуясь термином математики, некий дифференциал этой эволюции. Одна гениальная строка может оказать огромное влияние на душу того языка, на котором она написана. Она воскрешает в памяти угасшие образы. И в то же время позволяет слову быть непредсказуемым. Вернуть слову его непредсказуемость – это ли не шаг к свободе? Какое блаженство для поэтического воображения – пренебречь запретами! В старых трактатах о поэтическом искусстве был перечень допустимых вольностей. Но современная поэзия открыла свободе доступ в самую суть языка. И теперь поэзия становится феноменом свободы.
Так, даже на уровне отдельно взятого поэтического образа, в одном только рождающемся высказывании, каковое представляет собой стихотворная строка, может возникнуть феноменологический отклик; и в своей предельной простоте позволяет нам стать властелинами нашего языка. Здесь мы имеем дело с феноменом мерцающего сознания. В самом деле, поэтический образ как событие в психической жизни имеет очень малое значение. Найти его функцию в структуре чувственной реальности, так же как определить его место и роль в композиции стихотворения, – это задачи, которыми надлежит заняться лишь во вторую очередь. Сначала, в первом феноменологическом исследовании поэтического воображения, отдельно взятый образ, фраза, которая его развивает, строка или же целая строфа, в которой сияет поэтический образ, образуют пространства языка , изучением которых должен был бы заняться топоанализ. Вот почему Ж. Б. Понталис характеризует Мишеля Лейриса как «одинокого изыскателя, скитающегося по туннелям слов». Понталис также очень точно описывает нам это пространство как сплетение волокон, по которому проходит простой импульс – переживание слова. Атомизм концептуального языка предполагает формальное обоснование фиксации, неких централизующих сил. Но в стихотворной строке всегда есть движение, образ течет по руслу строки и увлекает за собой воображение, как если бы воображение создавало нервное волокно. Понталис приводит еще следующую формулу (с. 932), которую стоит запомнить как важный ориентир для феноменологии выражения: «Говорящий субъект есть исчерпывающее выражение себя самого». И нам уже не кажется парадоксом, что говорящий субъект весь целиком выражает себя в поэтическом образе, ибо если он не отдает себя без остатка, то не может войти в поэтическое пространство образа. Однозначно, поэтический образ предстает нам как едва ли не простейший опыт переживания языка. И если мы предлагаем рассматривать поэтический образ в качестве первоисточника сознания, он безусловно окажется в области применения феноменологии.
Если бы нам пришлось преподавать «курс» феноменологии, то первыми, самыми ясными и простыми занятиями стали бы занятия по феномену поэзии. Дж. Г. Ван ден Берг в своей последней книге пишет: «Поэты и художники – прирожденные феноменологи». Заметив, что предметы «говорят» с нами и что, если мы признаём ценность этого языка, это позволяет нам установить контакт с предметами, Ван ден Берг добавляет: «Сама наша жизнь представляет собой процесс решения вопросов, которые рефлектирующая мысль решить не в состоянии». Эти слова голландского ученого-феноменолога должны вдохновить философа, который намерен посвятить свое исследование человеку говорящему.
Возможно, отношение феноменологии к психоаналитическим исследованиям удалось бы прояснить, если бы мы, имея дело с поэтическими образами, сумели отграничить сферу чистой сублимации , такой сублимации, которая ничего не сублимирует, которая освобождена от балласта страстей, не испытывает давления желаний. Признавая выдающийся поэтический образ продуктом некоей абсолютной сублимации, мы вступаем в рискованную игру, строя аргументацию на чем-то весьма приблизительном. Но нам кажется, что поэзия дает нам множество доказательств этой абсолютной сублимации. На страницах нашей книги мы будем сталкиваться с ними постоянно. Получив эти доказательства, психолог и психоаналитик будут усматривать в поэтическом образе только игру, эфемерную, пустую и совершенно бесцельную. Потому что в их представлении образы будут лишены значения – эмоционального значения, психологического значения, психоаналитического значения. Им не приходит в голову, что эти образы обладают именно поэтическим значением. Но в них – вся поэзия, брызжущая образами, при поддержке которых поэтическое воображение может занять свое царство.
Поиски антецедента образа, в то время как мы являемся частью самой жизни образа, – это, в глазах феноменолога, признак застарелого психологизма . Рассмотрим же, в противоположность такому подходу, поэтический образ в его сущности. Поэтическое сознание настолько поглощено образом, появившимся в пространстве над языком, выше обиходного языка, с помощью поэтического образа оно изъясняется языком настолько новым, что мы теряем представление об осмысленных связях прошлого с будущим. В дальнейшем мы приведем примеры таких разрывов в значении, в ощущении, в чувствовании, что читатели неизбежно согласятся с нами: поэтический образ существует под влиянием некоего нового существа.
Это новое существо – счастливый человек.
Если он счастлив в слове, значит, несчастлив в деле, тут же возразит психоаналитик. В его понимании сублимация – не более чем компенсация по вертикали, бегство вверх, по аналогии с другой формой компенсации – бегством по горизонтали. И психоаналитик сразу прекращает онтологическое исследование образа; он обращается к истории конкретного человека; он открывает и показывает нам тайные страдания поэта. На его взгляд, разгадка появления цветка – это удобрение.
Феноменолог не забирается в такие дебри. Этот ученый видит реально существующий образ, слово, которое обращено к нему, слово поэта, обращенное к нему. И вовсе не нужно испытать тайные страдания поэта, чтобы насладиться счастьем слова, подаренного поэтом, – счастьем слова, превозмогающим даже личное горе. Сублимация в поэзии поднимается над психологией души, несчастной в своей земной жизни. Это факт: какую бы житейскую драму ни была призвана иллюстрировать поэзия, сама по себе она дарит нам счастье.
Чистая сублимация, которую мы предполагаем в данном случае, вызывает серьезные методологические трудности, поскольку, разумеется, феноменолог не может игнорировать глубокую психологическую реальность процессов сублимации, так подробно изученных в психоанализе. Однако здесь речь идет о том, чтобы, с феноменологической точки зрения, перейти к еще не пережитым образам, которые не подготовлены жизнью и которые поэт создает сам. Речь идет о том, чтобы пережить еще не пережитое и открыться языку, открывшему нам свои тайны. Далее мы сможем провести такие опыты, рассматривая отдельные выдающиеся стихотворения. В частности, некоторые стихотворения Пьер-Жана Жува. Невозможно найти произведения, более насыщенные психоаналитическими раздумьями, чем книги Пьер-Жана Жува. Однако в его поэзии пламя иногда обжигает нас так, как оно не может обжечь даже в самом очаге возгорания. Разве не говорит он: «Поэзия постоянно поднимается над своими истоками и, испытывая непомерный восторг или непомерную скорбь, все же остается более свободной»? И еще (с. 112): «Чем глубже я погружался во время, тем лучше управлял погружением, все больше отдаляясь от его случайной причины и приближаясь к чистой языковой форме». Согласился ли бы Пьер-Жан Жув рассматривать «причины», вскрытые психоанализом, как «случайные»? Не знаю. Но в области «чистой языковой формы» психоаналитические причины не позволяют предугадать, каким будет новый, еще не рожденный поэтический образ. Они могут быть разве что поводами к его высвобождению. Вот почему поэзия – в ту поэтическую эру, в которой мы живем, – такая «неожиданная», а стало быть, ее образы непредсказуемы. Литературные критики не вполне четко осознают эту непредсказуемость, тем более, что, осознав ее, они уже не смогли бы давать поэтическим образам обычные психологические объяснения. А вот поэт заявляет об этом с полной четкостью: «Поэзия, особенно в ее сегодняшнем, неожиданном, развитии, нуждается во внимательных исследователях, влюбленных во все новое и открытых для будущего». И далее (с. 170): «В результате выработалось новое определение поэта. Поэт – это тот, кто знает, а значит, переходит границы опыта и подбирает название тому, что узнал». И наконец (с. 10): «Где нет неограниченного творчества, там нет поэзии».
Такая поэзия – редкость. В основной своей массе поэзия более тесно связана с человеческими страстями, более психологизирована . Да, такая поэзия – скорее исключение, которое, однако, в данном случае не подтверждает правило, а опровергает его и устанавливает новый порядок вещей. Без области абсолютной сублимации, будь эта область сколь угодно ограниченной и возвышенной, и даже если она кажется недосягаемой для психологов либо психоаналитиков, – которые, в сущности, не призваны заниматься исследованием чистой поэзии, – мы не можем выявить точную полярность поэзии.
Мы можем затрудняться с точным определением плана разрыва, можем надолго задержаться в сфере конфузиональных, относящихся к спутанному сознанию страстей, которые нарушают гармонию в поэзии. Более того, высота позиции, с которой мы будем рассматривать чистую сублимацию, для разных людей неодинакова. По крайней мере, необходимость разделить сублимацию, изучаемую психоаналитиком, и сублимацию, которую изучает феноменолог, занимающийся поэзией, – это методологическая необходимость. Пусть психоаналитик и может изучать человеческую природу поэтов, однако пребывание в области страстей не может подготовить его к изучению поэтических образов в их заоблачной реальности. Кстати, об этом очень точно сказал Карл Густав Юнг: когда ученый пользуется системой оценок, обычных для психоанализа, «его интерес к произведению искусства ослабевает, он начинает блуждать в безнадежном хаосе психологических антецедентов, и в итоге поэт превращается в клинический случай, в пациента, у которого обнаружили сразу несколько разновидностей psychopathia sexualis. Так психоанализ произведения искусства отдалился от своего объекта и перенес обсуждение в плоскость преимущественно человеческую, ни в коей мере не характеризующую данного человека как художника и тем самым несущественную для его искусства».
Для того чтобы резюмировать это обсуждение, и только для этого, мы позволим себе некое полемическое отступление, хотя обычно полемика нас не занимает.
Однажды римлянин сказал сапожнику, который рассуждал о слишком высоких для него предметах: «Ne sutor ultra crepidam».
В тех случаях, когда речь идет о чистой сублимации, когда нужно дать определение самой сущности поэзии, феноменолог должен был бы сказать психоаналитику: «Ne psuchor ultra uterum».
Короче говоря, как только то или иное искусство становится самостоятельным, оно выбирает для себя новый путь. И в такой ситуации интересно отследить этот новый путь с точки зрения феноменологии. Задача феноменологии по определению – стирать прошлое и поворачиваться лицом к новому. Даже в таком постоянно опирающемся на ремесло искусстве, как живопись, величайшие достижения находятся за пределами ремесла. Так, рассуждая о творчестве художника Лапика, Жан Лескюр справедливо замечает: «Хотя его творчество свидетельствует о высокой культуре и знании всех правил, по которым можно создать динамичное изображение пространства, он не пользуется этим, не превращает это в набор приемов… Стало быть, необходимо, чтобы знание сопровождалось забвением этого знания, в точности равным ему по объему. Не-знание в данном случае отнюдь не невежество, но мучительное преодоление приобретенного знания. Только так творчество художника может каждое мгновение быть абсолютным началом, которое превращает творение в акт свободы». Для нас это утверждение имеет огромную важность, поскольку оно с легкостью превращается в феноменологию поэтического творчества. Не-знание – необходимое условие существования поэзии; если поэт применяет навыки ремесла, то лишь для решения второстепенной задачи – чтобы связывать образы друг с другом. Но вся жизнь образа умещается в один сияющий миг, она основана на том, что образ находится далеко за пределами любой информации, какую могут дать нам органы чувств.
Образ возносится над жизнью на такую высоту, что жизнь уже не в состоянии объяснить его. Жан Лескюр говорит о Лапике (там же, с. 132): «Лапик требует от творческого акта, чтобы тот оказался для него столь же непредсказуемым, как жизнь». С этой точки зрения искусство представляется своего рода двойником жизни, который соревнуется с ней в непредсказуемости, возбуждая наше сознание и не давая ему погрузиться в дремоту. Лапик пишет (цит. в книге Лескюра, с. 132): «Если я, скажем, пишу картину, изображающую переправу через реку в Отее, я рассчитываю, что работа над ней принесет мне столько же неожиданных впечатлений, сколько принесла настоящая переправа, увиденная мной, – хоть и в совсем ином роде. Не может быть и речи о том, чтобы в точности повторить зрелище, которое уже принадлежит прошлому. Но мне нужно пережить его снова, от начала до конца, и на сей раз по-иному, через живопись, и при этом дать мне самому возможность испытать новое потрясение». И Лескюр подводит итог: «Неправда, что художник творит так же легко и естественно, как живет: нет, он живет так же легко и естественно, как творит».
Итак, современный живописец больше не воспринимает образ как простой субститут чувственной реальности. Уже Пруст говорил о розах на картине Эльстира, что они были «новым видом, которым этот художник, словно одаренный садовод, обогатил семейство розоцветных».
Классическая психология редко обращается к теме поэтического образа, который она часто путает с простой метафорой. Кстати говоря, со словом «образ» в трудах психологов вообще большая путаница: в этих сочинениях видят образы, воспроизводят образы, хранят образы в памяти. Образ – это все, что угодно, но только не первичный продукт воображения. В книге Бергсона «Материя и память», где понятие образа трактуется очень широко, продуктивное воображение упоминается только один раз (с. 198). И эта продуктивность считается одним из проявлений второстепенной свободы, имеющей лишь косвенное отношение к великим актам свободы, которые подробно рассматривает бергсоновская философия. В указанном нами тексте речь идет об «играх фантазии». Многоликие Образы – это «вольности, которые дух допускает по отношению к природе». Однако эти вольности не создают у человека зависимость, не обогащают язык, не выводят его за рамки его обычной утилитарной функции. Это действительно не более чем «игры». И еще: хотя воображение и вмешивается в наши воспоминания, оно лишь слегка их расцвечивает. В том, что касается поэтизации памяти, Бергсон значительно отстает от Пруста. Вольности, которые дух допускает по отношению к природе, не раскрывают по-настоящему природу духа.
Мы же, напротив, предлагаем считать воображение одним из важнейших свойств человеческой природы. Разумеется, если мы скажем, что воображение – способность производить образы, толку от этого не будет. Но эта тавтология полезна хотя бы тем, что не позволит путать образы с воспоминаниями.
В моменты своей напряженной активности воображение отделяет нас и от прошлого, и от реальности. Оно распахивает окно в будущее. К подготовленной прошлым функции реального, которую открыла для нас классическая психология, необходимо добавить еще одну, столь же достоверную, как мы пытались доказать в наших предыдущих работах, – функцию ирреального . Ущербность функции ирреального тормозит творческую активность души. Разве возможно предвидение там, где отсутствует воображение?
Однако, занимаясь напрямую проблемами поэтического воображения, мы убеждаемся: поэзия может что-то дать человеку только при условии взаимодействия этих двух функций души – функции реального и функции ирреального. Стихотворение, сплетающее воедино реальное и нереальное, обогащающее язык одновременным воздействием прямого и переносного смыслов, благотворно влияет на нас: это влияние заставляет вспомнить основы ритманализа. Поэзия создает у человека воображающего такую зависимость, что он перестает быть просто субъектом по отношению к глаголу «приспосабливаться». Реальные условия уже не являются для него определяющими. С помощью поэзии воображение попадает в особую, запредельную зону, где функция ирреального обольщает либо раздражает – но в любом случае пробуждает – человека, усыпленного автоматизмом своих привычек. Самая коварная из разновидностей такого автоматизма – автоматизм языка – перестает действовать, когда мы проникаем в область чистой сублимации. С высот чистой сублимации воспроизводящее воображение кажется чем-то посредственным. Жан-Поль Рихтер сказал: «Воспроизводящее воображение есть проза воображения производящего».
В нашем, быть может, слишком длинном философском предисловии мы кратко изложили основные положения, которые нам хотелось бы проверить в этой, а также, надеемся, и в последующих работах. В настоящей книге выбранное нами опытное поле обладает одним преимуществом: оно весьма ограничено. В самом деле, мы собираемся изучать весьма простые образы, образы счастливого пространства . Тема наших исследований могла бы быть определена как топофилия, привязанность к определенному месту. Цель этих исследований – выявить человеческую ценность пространств, принадлежащих человеку, пространств, обороняемых от враждебных сил, любимых пространств. По тем или иным, порой весьма несхожим, причинам, со всеми оттенками и различиями, какие предполагают законы поэзии, это пространства восхваления . К их способности защищать, которая может быть вполне реальной, прибавляются какие-то другие, воображаемые свойства, и вскоре эти свойства обретают статус главных ценностей. Пространство, пропущенное через воображение, не может остаться безразличным пространством, всецело во власти геометра с его подсчетами и вычислениями. Отныне оно стало обжитым. И оно обжито не в своей реальной идентичности, а в причудливой интерпретации воображения. В частности, оно почти всегда становится притягательным. Это пространство сосредотачивает наше бытие в границах, которые обеспечивают нам защиту. В царстве образов смесь внешнего и сокровенного – не равновесная смесь. Существуют и враждебные пространства, но о них в нашей книге не будет сказано почти ничего. Чтобы изучать эти пространства ненависти и борьбы, нужно обратиться к огненным письменам, к образам Апокалипсиса. В данный момент мы займемся образами, которые притягивают. Однако, исследуя мир образов, очень скоро замечаешь, что опыт притяжения и опыт отталкивания отнюдь не исключают друг друга. Антагонизм заключен лишь в терминах. Ведь когда мы изучаем электричество или магнетизм, мы говорим о силе отталкивания столько же, сколько о силе притяжения. Минус легко меняется на плюс, как в алгебре. Но образам трудно ужиться с понятиями, находящимися в состоянии покоя, и еще труднее – с понятиями, находящимися в состоянии законченности. Воображение беспрестанно воображает, беспрестанно обогащает себя новыми образами. Именно это богатство воображенного бытия мы и собираемся исследовать.
Вот вкратце содержание глав этой книги.
Сначала, как положено при изучении сокровенных образов, мы поговорим о проблемах поэтики дома. Возникает множество вопросов: как тайные комнаты, исчезнувшие комнаты превращаются в жилища для незабываемого прошлого? Где и как покой находит для себя наиболее благоприятные ситуации? Как получается, что кратковременные приюты и случайные убежища порой вбирают в себя наши затаенные мечты, ценности, у которых нет никакой объективной основы? Изучая образ дома, мы воистину открываем для себя закон психологической интеграции. С помощью образа дома дескриптивная психология, глубинная психология, психоанализ и феноменология смогли бы соединиться в систему наук, которой мы дали название «топоанализ». Если рассмотреть образ дома в различных аспектах, сложится впечатление, что этот образ стал топографией нашего сокровенного «я». Чтобы дать понять, сколь трудна задача психолога, исследующего глубины человеческой души, К. Г. Юнг приводит следующее сравнение: «Нам надо изучить некое здание и объяснить его: верхний этаж здания был возведен в XIX веке, первый этаж – в XVI веке, а более тщательное исследование показывает, что оно построено над башней II века. В погребе мы обнаруживаем остатки древнеримского фундамента, а под погребом – засыпанную пещеру: из верхнего слоя земли мы достаем первобытные кремниевые орудия, в нижнем слое покоятся останки фауны ледникового периода. Примерно так можно представить себе структуру нашей души». Разумеется, Юнг знает, насколько приблизительно такое сравнение (с. 87). Но его легко развить, а значит, имеет смысл воспользоваться домом как инструментом анализа человеческой души. Разве этот «инструмент» не помогает нам, размышляющим в тишине настоящего дома, найти поддержку и утешение в нашей внутренней пещере? Разве башня нашей души разрушена до основания? Разве мы навеки стали, как сказано в знаменитой строке поэта, обитателями «тех башен княжеских, чьи древле пали стены»? Не только наши воспоминания, но и события, забытые нами, «нашли приют». Наше бессознательное тоже «нашло приют». Наша душа – это жилище. Вспоминая о разных «домах», о разных «комнатах», мы научаемся «жить» внутри самих себя. Мы уже успели понять: образы дома имеют двоякое действие, они находятся внутри нас в такой же степени, как мы – внутри них. Это такая сложная механика, что нам понадобились две длинные главы, дабы бегло обрисовать значения образов дома.
После этих двух глав о доме для людей мы изучили ряд образов, которые можем рассматривать как дом для вещей: это ящики, сундуки и шкафы. Какие сокровища психологии хранятся в них под замком! Они несут в себе своеобычную эстетику, эстетику спрятанного. Чтобы прямо сейчас начать разговор о феноменологии спрятанного, достаточно будет одного предварительного замечания: пустой ящик нельзя вообразить . О нем можно только подумать . И для нас, поскольку в нашей книге воображаемое важнее узнанного, а то, что о нем мечтается, важнее проверенного на опыте, – для нас все шкафы полны.
Иногда вам только кажется, что вы заняты изучением чего-то, на самом же деле вы просто погружаетесь в свое образную мечтательность. Две главы, которые мы посвятили Гнездам и Раковинам – этим двум убежищам позвоночных и беспозвоночных, – являются примером активности воображения, лишь едва сдерживаемого реальностью предметов. Мы, когда-то так долго размышлявшие об образах стихий, снова предавались нескончаемым воздушным или водным видениям, следуя за поэтами в гнездо среди ветвей или в раковину, эту пещеру для моллюсков. Порой я прикасаюсь к предметам, но не чувствую их, мне все еще видится стихия.
После видений, в которых мы видели себя обитателями мест, непригодных для обитания, мы вернулись к образам, ради которых, чтобы мы могли жить в них как в гнезде или в раковине, нам надо сделаться совсем маленькими. В самом деле, разве даже в наших настоящих домах мы не находим себе закутков или углов, куда так приятно забиться? Глагол «забиться» относится к феноменологии глагола «обитать». Обитать в полном смысле этого слова может только тот, кто сумел забиться в какой-нибудь уютный закуток. Для этой цели у нас внутри имеется целый склад образов и воспоминаний, которыми мы не очень-то любим делиться. Если бы психоаналитик захотел систематизировать эти образы укрытий, он мог бы предоставить нам много интересных документальных свидетельств. Но сами мы располагаем лишь литературными документами. И мы написали короткую главу про «углы», удивившись тому, что великие писатели придавали этим психологическим документам такую литературную ценность.
После стольких глав, посвященных сокровенным пространствам, мы захотели выяснить, как выглядит с точки зрения поэтики пространства диалектика большого и малого, как во внешнем пространстве воображение, не прибегая к помощи идей, можно сказать, легко и естественно, применяет релятивизм величин. Диалектику малого и большого мы рассматривали под знаками Миниатюры и Громадности. Эти две главы не настолько антитетичны, как можно было бы подумать. И в том, и в другом случае маленькое и большое не следует рассматривать в их объективности. В этой книге мы будем говорить о них лишь как о двух полюсах некоей проекции образов. В других книгах, особенно тех, что были посвящены громадности, мы попытались проанализировать размышления поэтов, созерцающих величественные картины природы. Здесь же речь пойдет о большей вовлеченности в движение образа. Например, нам предстоит на материале нескольких стихотворений доказать, что ощущение громадности присутствует в нас самих и вовсе не обязательно связано с каким-либо объектом.
К этому моменту мы в нашей книге собрали уже достаточно много образов, чтобы по-своему, признавая за образами их онтологическую ценность, утвердить диалектику внутреннего и внешнего, диалектику, которая перекликается с другой, с диалектикой открытого и закрытого.
С главой о диалектике внутреннего и внешнего тесно связана следующая глава под названием «Феноменология круглого». Трудности, возникшие у нас при написании этой главы, были вызваны необходимостью отстраниться от какой бы то ни было геометрической наглядности. Иначе говоря, нам пришлось отталкиваться от представления о круглом, существующего в нашей душе. Мы обнаружили у мыслителей и поэтов образы круглого, которые подаются напрямую, образы, которые – и это для нас главное – не являются простыми метафорами. Тут нам представляется еще одна возможность уличить метафору в интеллектуализме и лишний раз показать, какова специфика активности, присущей чистому воображению.
По нашему замыслу две последние главы, отягощенные скрытой философичностью, должны были стать связующим звеном между этой книгой и следующей, которую мы собираемся написать. В новую книгу вошло бы самое важное из многочисленных лекций, которые мы прочли за последние три года нашего преподавания в Сорбонне. Хватит ли у нас сил написать ее? Одно дело – слова, которые так легко произносятся перед доброжелательной аудиторией, и другое – книга, для написания которой необходима жесткая дисциплина. В устном преподавании, когда вас вдохновляет счастье преподавать, слово порою думает само по себе. Но при написании книги все же приходится размышлять.
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»
Gaston Bachelard
La po?tique de l"espace
© Presses Universitaires de France, 1957
© Кулиш Нина, перевод, 2014
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/ IRIS Foundation, 2014
Введение
I
Философ, вся система взглядов которого сложилась под воздействием фундаментальных тем философии науки, который так последовательно, как он только смог, придерживался линии активного рационализма, линии неуклонно возрастающего рационализма современной науки, должен стереть из памяти свое знание, отбросить все свои навыки философских исследований, если он вознамерится изучать круг проблем, связанных с поэтическим воображением. В этой области весь его культурный багаж будет бесполезным; длительная работа по согласованию мыслей и созданию мыслительных конструкций, работа, занимавшая иногда неделю, а иногда и месяц, не даст никакого результата. Надо быть очевидцем, очевидцем образа в самую минуту его появления: если существует некая философия поэзии, эта философия должна рождаться и возрождаться по велению некоей звучной стихотворной строки, в абсолютном слиянии с неким отдельно взятым образом, а точнее говоря, из восторга, вызванного новизной этого образа. Поэтический образ – внезапно возникающая рельефная выпуклость на ровном фоне обычной психической деятельности, явление, мало изученное в системе психологических причинных связей низшего порядка. Никакое общее и повсеместно согласованное правило также не может стать основой для философии поэзии. Понятие принципа, понятие «основы» стало бы в данном случае губительным. Оно свело бы на нет всю актуальность, всю психическую новизну стихотворения. Если философская мысль, рассматривая какую-либо долго и тщательно разрабатывавшуюся научную теорию, должна требовать, чтобы новая идея вписывалась в круг уже испытанных идей, пусть даже круг этот, из-за появления новой идеи, придется подвергнуть кардинальному пересмотру, как это происходит при любых революциях в современной науке, – то философия поэзии должна признать, что у произведения поэтического искусства нет прошлого, или, по крайней мере, недавнего прошлого, изучая которое мы могли бы отследить этапы его подготовки и самое появление на свет.
Когда в дальнейшем нам случится упомянуть о связи нового поэтического образа с неким архетипом, дремлющим в глубине бессознательного, придется разъяснить, что связь эта не является причинной в точном смысле слова. Поэтический образ не подчиняется давлению извне. Он не может быть отзвуком прошлого. Скорее наоборот: сила образа пробуждает отзвуки в далеком прошлом, и трудно даже сказать, насколько далеко будут они отдаваться и как скоро смолкнут. Благодаря своей новизне, своей активности поэтический образ обретает самостоятельное существование, самостоятельную динамику.
Он имеет непосредственную онтологию . Именно эту онтологию нам и предстоит рассмотреть.
Итак, не в причинности, а, напротив, в воздействии
, так замечательно изученном Минковским1
См. Minkovski, E. Vers une cosmologie
, Chap. IX.
Мы, как нам кажется, нашли истинные критерии, по которым следует судить о бытии поэтического образа. В этом воздействии поэтической образ обретет бытийную звучность. Поэт высказывается на пороге бытия. Таким образом, чтобы определить бытие образа, нам придется испытать на себе, говоря в стиле феноменологии Минковского, его воздействие.
Сказать, что поэтический образ выпадает из причинных связей, значит сделать весьма серьезное заявление. Однако причины, приводимые психологом и психоаналитиком, не в состоянии объяснить нам весьма неожиданный характер только что рожденного образа, равно как и сопереживание, которое этот образ рождает в душе, непричастной к процессу его создания. Поэт не сообщает мне предысторию созданного им образа, но этот образ сразу же укореняется в моей душе. Возможность приобщения к самобытному образу – факт, имеющий чрезвычайно важное онтологическое значение. Мы приобщаемся к нему снова и снова, посредством коротких, единичных и активных действий. Образы влекут за собой – задним числом, – не будучи сами проявлением вовлеченности. Конечно, при исследованиях в психологии можно воспользоваться методами психоанализа, чтобы охарактеризовать личность поэта, можно также установить, насколько сильному влиянию – а в особенности давлению – тот или иной поэт подвергался в течение своей жизни, но поэтическое творчество, внезапно возникающий образ, вспышка бытия в царстве воображения ускользают от таких разысканий. Чтобы осветить с философских позиций проблему поэтического образа, надо прибегнуть к феноменологии воображения. Мы подразумеваем под этим изучение феномена поэтического образа, когда образ возникает в сознании как непосредственное порождение сердца, души, бытия человека, захваченного в реальный момент своей жизни.
II
Возможно, нас спросят, почему, изменив нашу прежнюю точку зрения, мы теперь стремимся найти феноменологическое определение образов. Действительно, в наших предыдущих работах, посвященных воображению, мы сочли более целесообразным исследовать, настолько объективно, насколько это возможно, образы четырех стихий, четырех принципов всех наглядных космогоний. Оставаясь верными нашим привычкам философа, изучающего научные дисциплины, мы попытались исследовать образы без какой-либо попытки их личной интерпретации. Но мало-помалу этот метол, привлекательный своей истинно научной осмотрительностью, стал казаться мне не вполне подходящим для того, чтобы заложить основы некоей метафизики воображения. Разве «осмотрительный» подход как таковой не представляет собой отказ повиноваться спонтанной динамике образа? К тому же мы успели узнать, как трудно бывает отрешиться от этой «осмотрительности». Легко сказать, что ты решил сменить привычки в своей интеллектуальной деятельности, но как осуществить это на деле? Для рационалиста такая перемена выливается в маленькую повседневную драму, своего рода дуализм мышления, который, при всей фрагментарности осмысляемого объекта – ведь это всего лишь образ, – тем не менее становится суровым испытанием для психики. Но в этой маленькой культурной драме, драме на скромном уровне своего виновника – нового, только что рожденного образа, – уместился весь парадокс феноменологии воображения: как некий образ, единичный и обособленный, может казаться результатом сосредоточенной работы всей психики? И почему такое единичное и мимолетное событие, как рождение единичного поэтического образа, может воздействовать – без всякой подготовки – на души и сердца других людей, преодолевая все заслоны здравого смысла, опровергая все доводы благоразумия, так гордящиеся своей незыблемостью?
И тогда нам представилось, что сущность этой транссубъективности образа невозможно понять при помощи одних лишь привычных нам объективных референций. Только феноменология – то есть рассмотрение факта возникновения образа в индивидуальном сознании – может помочь нам восстановить объективность образов и измерить охват, силу и смысл его транссубъективности. Всем этим случаям объективности и транссубъективности нельзя дать определение раз и навсегда. В самом деле, поэтический образ по сути своей вариативен. В отличие от концепта он не является конститутивным . Конечно, отследить изменяющее воздействие поэтического воображения в подробностях изменчивых поэтических образов – работа хоть и однообразная, но тяжелая. Если мы призовем человека, читающего стихи, обратиться к учению, которое называют «феноменология» (а это название часто понимают неправильно), наш призыв вряд ли будет услышан. Но давайте оставим в стороне всевозможные учения, и тогда смысл призыва станет понятным: мы просим читателя стихов не воспринимать образ как объект, и уж тем более – не как заменитель объекта, но уловить его специфическую реальность. Для этого надо систематически ассоциировать творческий акт сознания с самым недолговечным продуктом сознания: поэтическим образом. На уровне поэтического образа двойственность субъекта и объекта становится мерцающей, переливчатой, подверженной беспрестанным инверсиям. В сфере создания поэтом поэтического образа феноменология превращается, если можно так сказать, в микрофеноменологию. В результате такая феноменология получает шанс стать строго элементарной феноменологией. Образ – слияние чистой, но мимолетной субъективности с реальностью, никогда не достигающей структурной законченности: здесь перед феноменологом открываются бесконечные возможности для экспериментов; он использует наблюдения, которые могут быть точными, потому что они просты, потому что они «не приводят к последствиям», как научные идеи, которые всегда несвободны. Образ в своей простоте не нуждается в знании. Он – преимущество наивного сознания. В своем выражении он – первозданная речь. Поэт благодаря новизне своих образов всегда стоит у истоков речи. Дабы определить, какой может быть феноменология образа, определить, что образ предшествует мысли, следовало бы сказать, что поэзия – не столько феноменология духа, сколько феноменология души. И тогда нам пришлось бы собирать документальные данные о грезящем сознании.
Философия современного французского языка, а тем более психология, почти не используют в своей практике сходство и различие понятий, обозначаемых словами «душа» и «дух». Вот почему обе эти науки остаются глухими к темам, которые столь часто встречаются в немецкой философии и в которых различие между духом и душой (der Geist и die Seele) выявлено с такой четкостью. Но раз уж философия поэзии должна иметь в своем распоряжении все богатства словаря, она ничего не должна упрощать, ничего не должна огрублять. Для такой философии дух и душа – не синонимы. Если мы сочтем их синонимами, то не сможем понять чрезвычайно важные тексты, исказим смысл документов, которые предоставила нам археология образов. Слово «душа» – бессмертное слово. Из некоторых стихотворений его удалить просто невозможно. Оно как дыхание2
Charles Nodier, Dictionnaire raisonn? des onomatop?es fran?aises
, Paris, 1828, p. 46. «Различные наименования души почти у всех народов представляют собой ономатопеи дыхания».
Звучание слова уже само по себе должно привлекать внимание феноменолога поэзии. Слово «душа» в поэзии может быть произнесено с такой убежденностью, что из этого вырастет целая поэма. Итак, перечень поэтических тем, соответствующих душе, должен оставаться открытым для наших феноменологических исследований.
Даже в области живописи, где выполнение поставленной задачи, по-видимому, требует диктуемых духом решений, связанных с законами восприятия, феноменология души может найти зародыш нового творения. В замечательной статье, посвященной выставке картин Жоржа Руо в Альби, Рене Юг пишет: «Если бы надо было определить, что позволяет Руо опрокидывать существующие рамки и условности, пришлось бы вспомнить старое и редко употребляемое слово “душа”». Рене Юг объясняет нам: для того чтобы понять, почувствовать и полюбить творчество Руо, «надо броситься в самый центр, в сердце, в срединную точку, где все берет свое начало и обретает смысл, и тут мы встречаем забытое или презираемое слово “душа”». А душа – и живопись Руо это доказывает – обладает неким внутренним светом, который «внутреннее видение» узнает и воспроизводит в мире ярких красок, в мире солнечного света. Итак, тому, кто желает понять и полюбить живопись Руо, необходимо кардинально изменить психологические перспективы. Ему понадобится сопричастность к внутреннему свету, который не является отражением света, исходящего от внешнего мира; конечно, о случаях внутреннего видения, проблесках внутреннего света нам зачастую сообщают с чрезмерной готовностью. Но здесь с нами говорит живописец, творец сияющих красок. Он знает, из какого источника исходит свет. Ему знаком скрытый смысл увлечения красным цветом. В основе такой живописи – непокорная душа. Фовизм живет внутри человека. Значит, такая живопись – феномен души. Творчество должно стать искуплением мятущейся души.
Статья Рене Юга укрепляет в нас уверенность, что есть смысл говорить о феноменологии души. Во многих обстоятельствах нам следует признать, что поэзия – это труд души. Сознание, объединившееся с душой, не так беспокойно, не так проникнуто интенциональностью, как сознание, объединившееся с феноменами духа. В стихотворениях проявляются силы, которые не циркулируют по каналам знания. Диалектики вдохновения и таланта станут понятнее для нас, если мы будем рассматривать два их полюса: душу и дух. На наш взгляд, душа и дух необходимы для изучения феноменов поэтического образа в их разнообразных оттенках, в особенности для того, чтобы отследить эволюцию поэтических образов от мечтательного раздумья до осуществления. В другой нашей работе мы рассмотрим мечтательное раздумье как феноменологию души. Мечтательность сама по себе есть психическое состояние личности, которое слишком часто путают со сном. Но когда мы имеем дело с поэтической мечтательностью, с мечтательностью, которая не только наслаждается собственным состоянием, но и обещает поэтические наслаждения другим душам, понятно, что обычная сонная истома тут ни при чем. Духу свойственны моменты отдохновения, но душа, объятая поэтической грезой, бодрствует без всякого напряжения, умиротворенная и деятельная. Чтобы создать стихотворение, законченное, тщательно структурированное, нужно, чтобы дух заранее спланировал его в общих чертах. Но у простого поэтического образа не существует плана, для него потребуется лишь душевный порыв. Душа заявляет о себе в поэтическом образе.
Так поэт со всей ясностью ставит перед нами феноменологическую проблему души. Пьер-Жан Жув пишет3
Pierre-Jean Jouve, En miroir
, ?d. Mercure de France, p. 11.
: «Поэзия – это душа, открывающая для нас некую новую форму». Душа – первооткрыватель. Она становится созидающей силой. Она выражает сущность человека. Если даже эта «форма» уже была известна и освоена ранее, стала компонентой каких-либо «общих мест», все равно она была для духа не более чем простым объектом, пока ее не озарил внутренний свет поэзии. Но вот душа открывает форму, наполняет ее, ликует внутри нее. Итак, фразу Пьер-Жана Жува можно считать афористически ясной формулой феноменологии души.
III
Если феноменологическое исследование поэзии собирается зайти так далеко и заглянуть в такие глубины, оно по методологической необходимости должно проявить невосприимчивость к тем более или менее многообразным эмоциональным отзвукам – трудно сказать, зависит ли это многообразие от нас самих или от стихотворения, – которые обычно вызывает у нас произведение искусства. В этом случае нужно обратить внимание на пару психологических двойников: отзвук и отклик. Отзвуки распространяются в различных аспектах нашей жизни в этом мире, а отклик призывает нас задуматься о глубине нашей внутренней жизни. В отзвуке мы слышим стихотворение, в отклике мы даем ему наш голос, оно становится нашим. Отклик подменяет одно бытие другим. Кажется, что бытие поэта стало нашим бытием. Проще говоря, тут мы испытываем ощущение, знакомое всякому страстному любителю поэзии: стихотворение захватывает нас целиком. В таком воздействия поэзии мы безошибочно угадываем характерную феноменологическую черту. Буйство образов и глубина стихотворения всегда вызваны этими двойниками, отзвуком и откликом. Буйством образов стихотворение пробуждает в нас неизведанные глубины. А потому, чтобы описать психологическое воздействие стихотворения, нам придется двигаться по двум направлениям феноменологического анализа, к буйству духа и к глубинам души.
Само собой, – стоит ли об этом говорить? – отклик, несмотря на то, что его название является производным от другого слова, имеет первичный феноменологический характер в сфере поэтического воображения, где мы собираемся его изучать. В самом деле, отклик на единичный поэтический образ пробуждает в душе читателя ни более ни менее как способность к поэтическому творчеству. Своей новизной поэтический образ растормаживает лингвистическую активность человека. Поэтический образ возвращает нас к моменту, когда люди только научились говорить.
Под воздействием отклика, который мгновенно переносит нас по ту сторону психологии или психоанализа, мы чувствуем, как поэтическая мощь бессознательно поднимается внутри нас. Это после отклика мы начинаем ощущать отзвуки, отголоски чувств, эхо нашего прошлого. Но еще до того, как устроить бурю на поверхности, образ успел затронуть глубины. И это происходит в обычной читательской практике. Образ, который мы воспринимаем при чтении стихотворения, становится полностью нашим. Он укореняется в нас самих. Мы его восприняли, но у нас возникает поразительное ощущение, что мы могли бы создать его сами, что мы должны были создать его. Он делается новой сущностью нашего языка; превращая нас в то, что он выражает, он становится выражением нашего «я», иными словами, он – становление выразительной мощи и становление нашей сущности. Выразительная мощь превращается в сущность.
Это последнее замечание определяет уровень онтологии, на котором мы работаем. Вообще говоря, мы считаем, что всё собственно человеческое в человеке есть логос . Мы не в состоянии развивать нашу мысль в том временн?м пласте, который, предположительно, существовал до появления языка. Даже если этот тезис как будто бы отвергает некую глубокую онтологическую истину, пусть нам позволят взять его на вооружение, хотя бы в качестве рабочей гипотезы, вполне соответствующей характеру наших исследований о поэтическом воображении.
Итак, поэтический образ, событие логоса, для нас лично является новаторским. Мы уже не воспринимаем его как «объект». Мы чувствуем, что «объективная» критическая позиция убивает «отклик», принципиально отвергает глубину, в которой должен зарождаться первоначальный поэтический феномен. Что касается психолога, то он оглушен отзвуками, а потому стремится снова и снова описывать свои чувства. Что касается психоаналитика, то он не слышит отклик, поскольку очень занят – распутывает ворох своих интерпретаций. Вынужденный придерживаться своего метода, психоаналитик неизбежно интеллектуализирует образ. Понимание образа у него глубже, чем у психолога. Но это весьма специфическое, деформирующее «понимание». У психоаналитика поэтический образ всегда втиснут в контекст. Давая интерпретацию образу, психоаналитик переводит его на другой язык, который не является поэтическим логосом. И здесь уместно вспомнить итальянское выражение «traduttore – traditore» – «переводчик – предатель».
Итак, мы снова приходим ко все тому же выводу: новизна поэтического образа заставляет нас задуматься о творческом потенциале любого человека, наделенного даром слова. Благодаря этому потенциалу сознание человека, давшего волю своему воображению, естественно и просто становится первоисточником поэзии. Именно эту задачу – выявить у различных поэтических образов силу первоисточника – должна решить феноменология поэтического воображения в исследовании, посвященном воображению.
IV
Ограничив наше исследование темой поэтического образа в его генезисе из чистого воображения, мы оставляем за рамками нашей работы проблему композиции стихотворения как сочетания множества различных образов. В процессе компоновки к делу подключаются сложные психологические элементы, связанные с более или менее далекой культурой и с литературным идеалом данной эпохи, а такие компоненты, бесспорно, должна изучать полноценная феноменология. Но столь обширная программа могла бы повредить чистоте несомненно первичных феноменологических наблюдений, которые мы хотим здесь представить. Настоящий феноменолог должен всегда помнить о скромности. Нам кажется, что даже простая ссылка на феноменологические возможности чтения, которые на уровне восприятия образа превращают читателя в поэта, уже отдает тщеславием. По нашему мнению, было бы нескромно приписывать себе самому эту способность – во время чтения соучаствовать в организованном и полноценном творческом процессе, относящемся ко всему стихотворению в целом. И уж тем более мы не можем претендовать на создание некоей синтетической феноменологии, которая смогла бы, как якобы могут некоторые психоаналитики, объять все творчество поэта. А стало быть, мы можем феноменологически «соответствовать» только на уровне отдельно взятых образов.
Но как раз эта малая толика тщеславия, это невинное тщеславие, испытываемое при простом чтении, тщеславие, которое подпитывается чтением в одиночестве, несомненно, имеет в себе в себе нечто феноменологическое, – если дело ограничивается простым чтением. В данном случае феноменолог не имеет ничего общего с литературным критиком, поскольку критик, как мы неоднократно указывали, выносит суждение о произведении искусства, которое не мог бы, или даже – о чем свидетельствуют его нелестные отзывы – не хотел бы создать сам. Литературный критик по определению – строгий читатель. Если вывернуть наизнанку слово «комплекс», которое от частого употребления обесценилось настолько, что вошло в лексикон государственных деятелей, то можно сказать, что литературный критик и преподаватель риторики, знающие всё и обо всем берущиеся судить, по собственной воле страдают комплексом превосходства. А вот для нас чтение – радость, потому что мы читаем и перечитываем только то, что нам нравится, испытывая при этом малую толику читательского тщеславия, смешанную с огромным энтузиазмом. Причем если обычное тщеславие разрастается до размеров порока, изменяющего личность, невинное читательское тщеславие, которое рождается от радостного приобщения к поэтическому образу, остается скрытым, незаметным. Оно живет в нас, простых читателях, для нас и только для нас. Это тщеславие местного значения. Никто не знает, что во время чтения в нас вновь оживает давняя мечта стать поэтом. Всякий читатель, хоть сколько-нибудь увлеченный этим занятием, в процессе чтения разжигает, а затем подавляет в себе желание стать писателем. Когда прочитанная страница слишком прекрасна, скромность подавляет это желание. Но потом оно возвращается. Так или иначе, всякий читатель, перечитывающий любимую книгу, знает, что любимые страницы затрагивают его. В замечательной книге Жан-Пьера Ришара «Поэзия и глубина» помимо других эссе есть две работы, одна о Бодлере, другая посвящена Верлену.
В новом переводе «Поэтики пространства» Гастона Башляра , вышедшем в издательстве Ad Marginem Press , главное — продраться сквозь относительно наукообразное предисловие, набитое всякими терминами и понятиями. Его — кстати, и написанное-то, скорее всего, постфактум, — лучше всего считать послесловием. То есть читать уже после того, как освоили основные десять глав, посвященных анализу того, как возникают художественные образы, связанные с обжитыми пространствами, которые Башляр назначает территориями счастья и покоя.
Сначала он анализирует, как и из чего складываются ощущения от дома, в котором жил или живешь, какие эмоции вызывают сад и дерево в саду, какие чувства — чердак, а какие — подвал. Дальше идут ящики, сундуки и шкафы, набитые метафорами внутренней жизни человека, затем гнезда и раковины (жилища не-людей). Небольшие главки, посвященные углам и миниатюрам, проглатываешь на одном дыхании, чтобы потом перейти к более абстрактным ощущениям «необъятности сокровенного», «диалектике внешнего и внутреннего», «феноменологии круглого». И все эти разделы, комментирующие поэтические строки (чемпион тут Рильке ) или живописные экзерсисы, написаны как поэма в прозе: образно и весьма возвышенно.
Башляр приводит описания картин Руо и Босха , цитирует письма Ван Гога и Вламинка для того, чтобы показать, откуда, из какого жизненного (читай: творческого) опыта рождаются захватывающие нас сюжеты: хижина с окном, в которой хочется очутиться, равнина или же африканская пустыня. Он говорит о грезе, чаще всего имеющей вид офорта или гравюры. Ибо любые, даже поэтические (словесные), образы на территории воображения превращаются в конкретные картинки, наполненные уже нашим личным опытом. Домами, в которых мы когда-то бывали (особенно важны, разумеется, детские воспоминания), или же странами, куда судьба заносила нас хотя бы однажды.
«Поэтика пространства» и есть анализ того, как те или иные ассоциации включаются в людях, читающих стихи или смотрящих на картины. Точнее, Башляр исследует, почему художники или поэты, изображая лес или деревенскую усадьбу, выбирают именно эти образы, а не какие-то другие. Потому что чердак — ближе к небесам, а подвалы крепко стоят на земле. Потому что домá нужны нам для защиты, а углы — для одиночества, ну и так далее.
Используя те или иные метафоры, авторы не задумываются о бессознательной работе «чистой сублимации», заставляющей претворять неочевидные знания о роли деталей быта в прекрасные законченные творения. Башляр же прослеживает все эти логические цепочки, как бы восхищаясь простотой творения: так вот же почему, смотрите! И делает это предельно увлекательно — куда там новомодным скандинавским детективам! Действительно, не оторваться.
Главная забота Башляра — разойтись с психоанализом, постоянно пытающимся вписать образы, появляющиеся в поэзии и в живописи, в узкобиографический контекст. Психоанализ изучает «грязную» сублимацию, в то время как поэтам и художникам важна жизнь души, очищенной от какой бы то ни было телесности. Собственно, для того, чтобы разойтись с психологической одномерностью Фрейда с Юнгом , и понадобилось наукообразное предисловие. Автор призывает заниматься изучением «незначительного», хотя через пару глав противоречит себе: «В исследовании души человеческой не бывает мелочей…»
От «Поэтики пространства» ощутимо, на глазах умнеешь, точнее, развиваешься, так как Башляр дает читателю новое, то, чем мы не обладали раньше, — метод. Но, помимо этого, он еще и вскрывает ничем не заполненные полости нашей интуиции и нашего опыта, указывает на прорехи и слепые пятна в понимании того, что всех окружает. Хочется сразу же читать цитируемых им авторов, следовать его «советам» и темам, умиротворяющим и убаюкивающим неизбывную городскую тревогу. От его книг (на русском изданы все основные труды) веет покоем всезнания, силой желания понимать и разбираться в мелочах, ничего не оставляя непроясненным.
Башляр не зря пишет, что подлинное переживание пространства бывает только счастливым (как и акт творения сопровождает только счастье, и даже если ты пишешь трагедию — ничего, кроме счастья), порождающим радость. И сначала ты читаешь его «Поэтику» как поэму, путаное текстуальное завихрение в духе «Остапа понесло», не очень-то доверяя восторженной скорописи. Однако уколы точности, постоянно вклинивающиеся в эти лирические монологи (выписывать афоризмы Башляра — отдельное удовольствие), точно пришпиливают внимание и доверие читателя к страницам книги. Он крутит-вертит текстуальную пургу, пока не брякнет что-нибудь неожиданно четкое, точно выбитое на камне. «Самый верный признак восхищения — преувеличение». Или — «проверка убивает образы. Воображать — это всегда более емко, чем жить». Или — «концепт есть мысль, сданная в архив, а значит, это мертвая мысль».
Или же вот еще одна формулировка, уложенная в 140 знаков классического твита: «Любая хорошая книга, как только мы ее прочли, сразу же требует повторного чтения. После наброска, коим является первое чтение, нам нужно второе — чтение-работа». Фраза эта особенно применима к «Поэтике пространства» Гастона Башляра, тем более что книга эта принадлежит к породе тех текстов, которые развивают только пока их читаешь. Есть труды, оставляющие влияние на долгие годы вперед, а есть такие, что схлопываются сразу же после того, как захлопнешь книгу.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Кафедра истории теории и методики преподавания литературы.
Курсовая
работа
Поэтика
пространства романа
Х. Мураками «Страна
чудес без тормозов
и Конец света».
Выполнила студентка
Филологического факультета 272 группы
Покутняя Валентина Владимировна.
Научный руководитель:
Завгородняя Н.И.
Дата
сдачи:
Оценка:
Подпись научного руководителя:
Барнаул 2010
Содержание:
Введение ……………………………………………………… ………..3
Глава 1. Раскрытие
термина «Поэтика» в современном
литературоведческом ракурсе.
1.1 Термин «поэтика»:
этапы становления…………………………..8
1.2 Понятие хронотопа
в литературоведение………………………. 13
Глава 2. Пространство
в романе Харуки Мураками «Страна Чудес
и Конец Света».
2.1 Пространство
реального мира…………………………………....18
2.2 Пространство
мифического мира…………………………………21
2.3 Связь
пространств на основе их сопоставления…………………23
Заключение…………………………………………………… ………..34
Список литературы…………………………………………………. ....37
Введение
Известно,
что русская литература сыграла
большую роль в формировании современной
японской литературы. Здесь лишним
было бы говорить о том огромном
влиянии, которые такие русские
классики, как Достоевский, Толстой
и Чехов оказали на многих японских писателей.
На эту тему уже написано большое количество
монографий и статей.
Но
как русская культура повлияла когда-то
на развитие японской, так и сейчас
японская культура (не только литература)
имеют некоторое воздействие на русских
людей. Многие русские сейчас интересуются
Японией и ее бытом. В том числе и литературой.
Один
из самых читаемых писателей Японии
сегодня Харуки Мураками. Обычно он
считается ориентированным более
на американскую литературу, чем на какую-либо
другую. Он хорошо знает английский язык,
любит сам переводить американскую литературу
с английского на японский (его перу принадлежат
японские переводы Скотта Фицджеральда
и Реймонда Карвера), и критики часто говорят
о возможном влиянии на него таких американских
писателей, как Курт Воннегут Младший,
Карвер и Джон Ирвинг.
Харуки
Мураками родился в Японии 12 января
1949, в городе Киото, древней столице Японии
в семье преподавателя классической филологии.
Мураками успешно окончил университет
Васэда и получил степень по современной
драматургии.
Будущий
писатель «проводил все свое время,
глотая книгу за книгой». [Д. Рубин, 2004:28].
Как родители ему не прививали интерес
к японской классике, он предпочитал Стендаля,
а в дальнейшем Толстого и особенно Достоевского».
[Д. Рубин, 2004:29].
Писатель
свой первый роман "Слушай песню
ветра" (первая часть «Трилогии
Крысы»), начал писать весной 1978 года.
«Он признается, что студентом
чувствовал желание что-то написать.
Этот роман он отправил в литературный
журнал «Гундзо», который проводил ежегодно
конкурсы для новых писателей с присуждением
призов. За этот роман ему была присуждена
награда как лучший дебют 1949-го» [Д. Рубин,
2004:53].
Далее
последовали романы «Пинбол-73» (1980г.)
и «Охота на овец» (1981г.) – вторая и третья
части «Трилогии». За «Охоту на овец» Мураками
получает еще одну литературную награду.
С этого романа начался его путь к миллионным
тиражам и всемирной популярности.
Настоящее
же народное признание на родине и
финансовое процветание пришло к Харуки
с публикацией в 1987 году романа "Норвежский
лес", проданного тиражом в 2 миллиона
копий. Этот роман был написан во время
длительного путешествия Мураками в Грецию
и Рим. Именно эта книга утвердила его
славу не только в Японии, но и в других
странах.
Другой
известный его роман «Страна
Чудес, или Конец Света» «был отмечен
премией Танидзаки, учрежденой в
честь Дзюнъитиро Танидзаки (1886-1965),
автора Дневника старого безумца»,
«Сестер Макиока» и многих других
произведений. Этот писатель впервые в
японской литературе описал вымышленные
миры» [Д. Рубин, 2004:176]. А Мураками создал
даже не один, а целых два мира, совершенно
разных, но подспудно взаимосвязанных»
[Д. Рубин, 2004:176].
Харуки
Мураками считается самым популярным
писателем современной Японии, - лауреат
литературной премии "Иомиури", присуждавшейся
таким авторам, как Юкио Мисима, Кэндзабуро
Оэ, Кобо Абэ.
В
его библиографии сорок книг эссе,
заметок, переводов, 18 томов полного
собрания сочинений.
Харуки
Мураками читаем и за рубежом и России.
Все его произведения о современном человеке
со всеми его волнениями – все то, что
окружает человека. Ничего не ускальзывает
от внимания писателя, даже самые незначительные
детали и сюжеты подаются ярко. «Следует
согласиться, что эти обращения к современной
жизни делают этого писателя актуальным
и доступным даже не для слишком-то опытного
читателя» [Е. Ермолин, 2002:397].
Главным
вопросом писателя становится: «Что из
себя представляет человек? Что в
нем своего сущностного, базисного?
Где он начинается, где и чем кончается?
И зачем вообще жить?» (Не столько «как»,
сколько – именно- «зачем»). [Е. Ермолин,
2002:398].
«Харуки
Мураками называют первым, кто стал
приверженцем американской массовой культуры,
все активнее проникающий в современную
Японию»[Д. Рубин, 2004:33]. Мураками своим
творчеством разрушает привычные японские
ценности, вроде стремления жить в гармонии
с окружающим миром, не выделяться из среды
и быть одержимым карьерой. Он с удовольствием
ломает традиции, за что презираем многими
японцами, приверженцами древних устоев
и "правильных" привычек. Его также
считают первым по-настоящему «пост-послевоенным
писателем» первым, кто разрядил «холодную,
тягостную атмосферу», чисто американское
ощущение легкости» [Д. Рубин, 2004:33].
Одним
из предметом увлечения стала американская
музыка, здесь у него просто энциклопедические
познания. Во всех без исключения его произведениях,
практически на каждой странице герои
и героини бесконечно слушают пластинки
с классикой, джазом, поп-музыкой, роком,
или напевают модные в 40-70 годы строчки.
Вследствие этого читатели, «встречая
у него, цитаты из песен «Бич Бойз» испытывали
чувство единения с автором: ведь он писал
об их мире» [Д. Рубин, 2004:33].
Сам
Мураками пишет, что любая строка
литературного произведения должна
подчиняться определенному ритму, как
в музыке, и должна содержать смысла ровно
столько, сколько необходимо, и ни каплей
больше.
Все
критики сошлись на том, что проза
Харуки похожа на музыку. Только слышит
ее каждый по-разному. Кому – то веселый
джаз, кому – то прохладная медленная
импровизация.
Актуальность
данной работы, обуславливается малой
изученностью творчества Харуки Мураками.
В немногочисленной критической литературе
творчество этого автора до сих пор по
достоинству не оценена. На данный момент
нам известно две монографии по изучению
творчества Харуки Мураками: Джейн Рубин
«Харуки Мураками и музыка слов»; Евгений
Ермолин «Человек-овца Господь Бог. Харуки
Мураками и его русские читатели// Континент
2002 №3.
Значимость
данной работы заключается в том, что исследование
носит экспериментальный, полемический
характер и является первой попыткой обращения
к фигуре Мураками в учебном контексте.
Цель
исследования:
рассмотреть творчество
популярного писателя Японии Харуки, и
проследить его отсылки к русской литературе.
Рассмотреть поэтику и основные мотивы
романа «Страна чудес без тормозов и Конец
света». Рассмотреть особенности пространственной
организации текста, законы построения
пространства.
Задачи:
- раскрыть
понятие «поэтика» в современном литературоведении
и применительно эпохе писателя.
выявить и изучить в системе основные художественные средства, которые формируют стиль романа.
рассмотреть символику и основные мотивы, которые использованы автором.
проанализировать организацию пространства в романе.
как через пространственные рамки организации текста раскрывается идея автора.
Методологическая основа работы базируется на сочетании историко-литературного, типологического и структурно-семиотического подходов.
Новизна данной работы, заключается в том, что творчество Харуки Мураками рассматривается в специфическом ракурсе с использованием современных достижений гуманитарной мысли при слабой степени изученности творчества вышеназванного автора.
Глава
1.
Раскрытие
понятия «Поэтика»
в современном
литературоведческом
ракурсе.
1.1
Термин «поэтика»:
этапы становления.
В
настоящее время имеется множество
работ и исследований по изучению
понятия «поэтика». Основоположником
поэтики считается Аристотель, хотя у
него и были предшественники. В литературной
энциклопедии терминов и понятий дается
следующее определение: «поэтика» (греч.
– творческое исскуство) – наука о системе
средств выражения в литературных произведениях,
одна из старейших дисциплин литературоведения
[«Литературная энциклопедия терминов
и понятий», 2001:785]. Это определение полностью
не раскрывает смысл данного понятия,
а затрагивает лишь некоторые его стороны.
«Поэтика» с одной стороны как наука литературоведения
приближена « к стилистике и стиховедению,
а с другой стороны « к эстетике и теории
литературы», которые формируют ее принципы
и методологическую основу. [«Большая
советская энциклопедия», 1975:464-465].
«Поэтика» прошла долгий путь изменений,
меняя характер изучения своего предмета
и характер своих задач. Она постоянно
взаимодействует с историей литературы
и литературной критики. Опираясь, на данные
этих предметов, она дает им, в свою очередь,
теоретические критерии и ориентиры для
классификации и интерпретации изучаемого
материала, а также для выведения его связей
с традицией, его художественные ценности.
Поэтика
рассматривается в 2-х аспектах: общая
и частная. «Общая «поэтика» включает
в себя теоретическое (учение о литературе
как системе, ее элементах и их взаимосвязи)
и историческое (учение о движении и смене
литературных форм). Это разделение условно,
но с научной точки зрения оно оправдано
и обусловлено самим предметом. «Общая
«поэтика» делится на три области, изучающие
соответственно звуковое, словесное и
образное строение текста; цель общей
поэтики – составить полный систематизированный
репертуар приемов», которые охватывают
все эти три области. [«Литературная энциклопедия
терминов и понятий», 2001:786]. Таким образом,
он изучает на звуковом строе произведения
фонику, ритмику, метрику и строфику (эта
область часто называется стиховедением);
в словесном – особенности лексики, морфологии
и синтаксиса произведения (эта область
называется стилистикой); в образном –
образы (персонажи и предметы), мотивы
(действия и поступки), сюжеты (традиционное
название этой области «топика» или «тематика»
(Б.В. Томашевский)).
«Частная
«поэтика» изучает литературное
произведение во всех перечисленных
выше аспектах, но главной проблемой частной
«поэтики» является композиция, т.е. взаимная
соотнесенность всех эстетически значимых
элементов произведения (композиция
фоническая, метрическая, стилистическая,
образно-сюжетная и общая, их объединяющая)
в их функциональной взаимности с художественным
целым. [«Литературная энциклопедия терминов
и понятий», 2001:786].
Разновидность общей - историческая
поэтика является самой древней
областью литературоведения. По
мере того, как накапливался опыт,
литература каждой эпохи « создавала
свой свод традиционных для нее «правил»,
стихотворства, «каталог» излюбленных
образов, метафор, жанров, поэтических
форм, способов развертывания темы и т.д.,
которыми пользовались ее родоначальники
и последующие мастера». [«Большая советская
энциклопедия Издание, 1975:465].
Родоначальником
исторической «поэтики» является А.Н.
Веселовский. «Исходным моментом в
работе этого ученого является стремление
собрать материал для методики истории
литературы, для индуктивной поэтики,
которая устраняла бы ее умозрительные
построения, для выяснения сущности поэзии
– из ее истории». [А.Н.Веселовский, 1989:15].
У
А.Н.Веселовского было немало продолжателей,
в числе которых, прежде всего, следует
назвать Ю.Н. Тынянова, М.М.Бахтина, В.Я.
Проппа.
Историческая
поэтика с помощью сравнительно-исторического
метода выявляет общие черты различных
культур и сводит их к общему источнику.
«Материал исторической поэтики позволяет
иногда реконструировать ход развития
отдельных образов, стилистических фигур
и стихотворных размеров до глубокой древности».
[«Литературная энциклопедия терминов
и понятий», 2001:787].
В
современной исследовательской
литературе этот термин употребляется
в трех значениях:
- Поэтика в
узком смысле этого слова изучает «литературность»,
«превращение речи в поэтическое произведение
и систему приемов, благодаря которым
это превращение совершается». [Р. Якобсон
«Работы по поэтике». 1987:81].
В широком понимании «предполагает изучение не только речевых, но и других структурных моментов художественного текста». [Ю. Манн «Поэтика Гоголя». 1988:3].
Следующая точка зрения заключается в том, что поэтика рассматривается как раздел общей эстетики, т.о. «поэтика относится не только к сфере литературы, но и ко всему искусству в целом». [Ю.Б. Борев, 1988:261].
Среди современных исследователей, занимающихся термином «поэтика» следует выделить Б.В. Томашевского. В своей работе он рассматривает художественное произведение с точки зрения двух подходов: «исторический» и «теоретический».
Подход исторический предполагает рассмотрение каждого произведения в соответствии с обстановкой эпохи, причиной его появления, его соотношения с другими произведениями, как оно повлияло на дальнейшие произведения.
Теоретический подход предусматривает то, что произведения нас интересуют «как результат применения общих законов создания художественного произведения» [Б.В. Томашевский, 2006: 39]. Теоретика интересуют «способы , которыми автор добивается своих результатов, а также, то воздействие, которое производит применение этих способов на практике» [Б.В. Томашевский, 2006: 39]. Эти способы называются литературными приемами. Отсюда следует, что «поэтика является наукой, изучающей литературные приемы и их воздействие на читателя. [Б.В. Томашевский, 2006: 39]. Также поэтика - это необходимая подсобная наука при изучении истории литературы. Таким образом, следует, что исторический и теоретический подходы нужно рассматривать только в системе. «Чтобы изучить произведение теоретически, необходимо понять, чем было оно для автора и для современных ему читателей». [Б.В. Томашевский, 2006: 39].
Другой исследователь поэтики О.М. Фрейденберг сообщает, что «поэтика есть наука о закономерностях литературного процесса». [О.М. Фрейденберг, 1997:9]. О.М. Фрейденберг современной задачей поэтики считает «сделать ее живой для литературоведения», приобщить ее к ней. [О.М. Фрейденберг, 1997:12]. Для нее главное показать, что поэтика есть совокупность явлений общественного сознания, которое меняется в зависимости от этапа развития общественных отношений и от наличия материала.
Из всего сказанного можно сказать, что поэтика определяет характер отображения времени и действия в художественном произведении.
1.2
Понятие хронотопа
в литературоведение.
Хронотоп
- это культурно обработанная
устойчивая позиция, из которой или сквозь
которую человек осваивает пространство
топографически объемного мира, у М. М
Бахтина - художественного пространства
произведения. Процесс освоения в литературе
времени и пространства и человека раскрывающегося
с помощью них, протекал в течение длительного
времени. Происходило осваивание отдельных
сторон времени, выявлялись его черты,
вырабатывались и жанровые формы отражения
окружающей действительности. Введенное
М. М. Бахтиным понятие хронотопа соединяет
воедино пространство и время, что дает
неожиданный поворот теме художественного
пространства и раскрывает широкое поле
для дальнейших исследований.
М.
Бахтин называет хронотопом «существенную
взаимосвязь временных и пространственных
отношений, художественно освоенных
в литературе хронотопом (что значит
в дословном переводе «времяпространство»)»
[Бахтин, 2000:234]. Термин также активно используется
в других работах Бахтина «Проблемы творчества
Достоевского» и «Творчество Франсуа
Рабле и народная культура средневековья
и Ренессанса». Этот термин был взят из
теории относительности (Эйнштейна). Для
нас не важен тот специальный смысл, который
он имеет в теории относительности, в литературоведение
он был перенесен почти как метафора (почти,
отмечает М. Бахтин, но не совсем): литературоведу
важно выражение в нем неразрывности пространства
и времени как четвертого измерения пространства.
И в литературе этот хронотоп принимает
более осмысленный характер. Как отмечает
М. Бахтин: время становится значимым;
пространство же раскрывается в движении
времени, в сюжете. Отсюда, время реализуется
в пространстве, а пространство контролируется
временем. Благодаря взаимосвязанности
этих понятий образуется художественный
хронотоп. «Причем в литературе ведущим
началом в хронотопе является время»
[Бахтин, 2000:235].
В
романах разных типов реальное историческое
время отображается по-разному. Например,
в средневековом рыцарском романе используется
так называемое авантюрное время, распадающееся
на ряд отрезков-авантюр, внутри которых
оно организовано абстрактно-технически,
так что связь его с пространством также
оказывается во многом техничной. Хронотоп
такого романа - чудесный мир в авантюрном
времени. Каждая вещь этого мира имеет
какие-нибудь чудесные свойства или просто
заколдована. Само время тоже становится
до некоторой степени чудесным. Появляется
сказочный гиперболизм времени. Часы иногда
растягиваются, а дни сжимаются до мгновения.
Время можно даже заколдовать. На него
оказывают воздействие сны и столь важные
в средневековой литературе видения, аналогичные
снам.
В
написанных в 1973 г. «Заключительных
замечаниях» к своей статье о хронотопах
Бахтин выделяет в литературе, хронотопы
дороги, замка, гостиной-салона, провинциального
городка, а также хронотопы лестницы, передней,
коридора, улицы, площади. Трудно сказать,
что в подобных хронотопах время очевидным
образом превалирует над пространством
и что последнее выступает всего лишь
как способ зримого воплощения времени.
Бахтин
вместе с тем отмечает, что большие
и существенные хронотопы могут включать
в себя неограниченное количество мелких
хронотопов. «...Каждый мотив может иметь
свой хронотоп». Можно, таким образом,
сказать, что большие хронотопы слагаются
из составных элементов, являющихся «мелкими»
хронотопами. Помимо указывавшихся уже
более элементарных хронотопов дороги,
замка, лестницы и т.д., Бахтин упоминает,
в частности, хронотоп природы, семейно-идилличес-кий
хронотоп, хронотоп трудовой идиллии и
др. «В пределах одного произведения и
в пределах творчества одного автора мы
наблюдаем множество хронотопов и сложные,
специфические для данного произведения
или автора взаимоотношения между ними,
причем один из них является объемлющим,
или доминантным... Хронотопы могут включаться
друг в друга, сосуществовать, переплетаться,
сменяться, сопоставляться, противопоставляться
или находиться в более сложных взаимоотношениях...
Бахтинский
хронотоп строится на скрещении двух
принципиально различных направлений
нравственных усилий субъекта: направления
к «другому» (горизонталь, время-пространство,
данность мира) и направления к «я» (вертикаль,
«большое время», сфера «заданного»). Это
придает произведению не просто физическую
и не только смысловую, но художественную
объемность.
Хронотоп
и определяет место человека в
литературе, раскрывает его образ; «этот
образ хронотопичен».
Термин
хронотоп после работ Бахтина
получил значительное распространение
в русском и зарубежном литературоведении.
Как
указывает В. Торопов, «пространство
и время можно понимать как
свойства вещи. Пространство высвобождает
место для сакральных объектов, открывая
через них свою высшую суть, давая этой
сути жизнь, бытие, смысл; при этом открывается
возможность становления и органического
обживания пространства космосом вещей
в их взаимопринадлежности. Тем самым
вещи не только конституируют пространство,
через задание его границ, отделяющих
пространство от не-пространства, но и
организуют его структурно, придавая ему
значимость и значение (семантическое
обживание пространства)». [Топоров, 1983:234].
М.
Поспелов отмечает, что между литературой
и живописью существует теснейшая связь
именно в выражении пространственных
категорий: подобно тому, как на картине
зрительно отражены пространственные
категории, так и писатель рисует перед
нашими глазами образы пространства. Однако
при этом писатель имеет преимущества
перед живописцем: он показывает нам пространство
и время в их непрерывной связи. [Поспелов,
1988: 261].
В
художественном произведении реальные
пространство и время преобразуются
в соответствии с идеей художника,
его «переживанием» пространства и
времени, отношением к действительности.
Художественное время может быть прерывным,
дискретным, многомерным, обратимым в
прошлое, неравномерным в течении. И художественное
пространство обычно дискретно, многомерно.
Глава 2
Пространство
в романе Харуки Мураками
«Страна Чудес и Конец
Света».
В
процессе работы с романом можно выделить
два наиболее значимые пространства в
романе.
1
Действие происходящее
в Токио (реальное пространство).
- Лифт
Офис толстушки
Офис Профессора под землей
Квартира главного героя
- Стена, окружающая
Город
Лес
Эта бесконечность души, некая двойственность понятий, отражается в «Sekai no owari to hado-boirudo wandarando» через своеобразное построение пространства и восприятие его автором.
Эти миры появляются в романе попеременно, повторяясь через главу, и в финале смыкаются. Возникает отсылка к пелевинскому произведению «Чапаев и пустота», отсюда следует, что структура романа Мураками сходна с композицией этого произведения.
В романе Пелевина точно так же имеются два мира, чередующиеся по главам. В романе Пелевина аналогичным образом один из миров современный, наполненный множеством реалий, взятых из теперешней московской жизни, в то время как другой довольно фантастичен и помещен в другое, удаленное от сегодняшнего дня время.
2.1 Пространство реального мира.
Первое место действия, с которым мы встречаемся это здание Системы - огромной корпорации по хранению и шифровке информации. И первое пространство, куда попадает герой - это лифт. В этом странном месте герой перестает понимать едет кабина или стоит на месте: «Кабина лифта мучительно медленно двигалась вверх. Точнее, мне казалось, что вверх: убедиться в этом никакой возможности не было. На такой черепашьей скорости всякое движение пропадает. Может быть, лифт опускался. Может, вообще стоял. И только мне сейчас было удобнее думать, что он поднимается. Жалкая гипотеза. Никаких доказательств. Возможно, я уже проехал этажей двенадцать вверх и еще три вниз. А может, успел обернуться вокруг Земли. Неизвестно». Возможно, автор хотел сказать, что не всегда человеческое сознание способно правильно оценить свое положение в пространстве. Пространство - величина, которую сознание может определить лишь относительно положения окружающего его мира. Если человек не видит мир, отрезан от него, то и ощущение пространства у него теряется. Здание Системы будто хочет показать человеку все его ничтожество.
Далее герой следует за толстушкой по пустынным коридорам, которые тоже кажутся весьма странными «Странный, на удивление безликий интерьер. Как и в лифте: все из добротного материала, но взгляду абсолютно не за что зацепиться. До блеска отполированный мраморный пол, белые стены с кремово-желтыми пятнами точь-в-точь, как оладьи на завтрак. По обеим сторонам - массивные деревянные двери, на каждой металлическая табличка с номером. При этом номера чередуются в каком-то бредовом беспорядке. За номером "936" следует "1213", потом "26". Как ни крути, такой нумерации не встретишь нигде. Что-то здесь явно не так».
и т.д................. 1
Осуществлен анализ образа дома, истоком которого являются архетипические переживания человека, связанные с поиском собственного места в мире, места-благобытия, и получившего многосодержательные художественные воплощения, прежде всего в русской литературе. Архетипический образ дома рассматривается как психическое событие, художественный образ дома анализируется как духовное явление, связанное с поиском выразительного языка. Образ дома рассматривается как духовная ценность, созданная воображением и воплотившая художественные рефлексии о доме как константе человеческого бытия в ее отечественной специфике. Анализируя художественное пространства дома, автор статьи следует научным традициям исследований по семиотике пространства, разработанных Ю.М. Лотманом, в частности оппозиции точечного (дом) и линеарного (дорога) их построения.
национальная идентичность.
духовная ценность
душевное выражение и художественное воплощение
образ дома архетипический и художественный
топофилия
образ дома
воображение
1. Башляр Г. Избранное. Поэтика пространства / пер. с фр. - М. : РОССПЭН, 2004. - 376 с.
2. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. - М. : Художественная литература, 1988. - 384 с.
3. Гоголь Н.В. Миргород // Гоголь Н.В. Соч. : в 7 т. - М. : Художественная литература, 1966. - Т. 2. - 378 с.
4. Кржижановский С.Д. Поэтика заглавий // Кржижановский С.Д. Соч. : в 5 т. - СПб. : Симпозиум, 2006. - Т. 4. - 848 с.
5. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. - М. : Просвещение, 1988. - 352 с.
6. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. - М. : Независимая газета, 2001. - 440 с.
7. Фрейд З. Леонардо да Винчи // З. Фрейд. Я и Оно: сочинения / пер. с нем. - М. : Эксмо; Харьков: Фолио, 2007. - 864 с.
8. Шпенглер О. Закат Европы / пер. с нем. - М. : Мысль, 1998. - Т. 2. - 607 с.
9. Шпенглер О. Закат Европы // Самосознание европейской культуры ХХ века: мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. - М. : Политиздат, 1991. - 366 с.
Отношение к воображению, как к одной из самых продуктивных способностей нашей психики, которая по значимости сопоставима с мыслью и опытом, традиционно связывают с художественным творчеством человека. Человек никогда не ограничивается восприятием внешнего мира, а строит свою собственную внутреннюю форму - образ. В психологии понятие «образ» толкуется неоднозначно: его можно «видеть», хранить в памяти, воспроизвести, вообразить, т.е. он обнаруживает разные психические глубины и, следовательно, бывает различным. Но образ всегда является нашим собственным внутренним пространством, созданным игрой воображения, т.е. он всегда в той или иной степени - поэтический. Поэтизировать объективную реальность - значит наделять ее большим пространством, чем объективно ей присуще. Человек всегда оказывается связан с каким-то местом, которое становится предметом мифологизации и художественного воплощения, но дом в этом ряду совершенно особенный. Г. Башляр, исследуя поэтику пространства, писал, что есть образы, которые концентрируют всю полноту жизненных сил и являются феноменами души как ее непосредственное порождение: «Мы имеем в виду изучение феномена поэтического образа, схваченного в его актуальности, когда он возникает в сознании как непосредственное порождение сердца, души, всего существа человека» . Феноменальность этого образа в том, что, будучи единственным, иногда весьма причудливым, он является настоящим психическим событием, обнаруживая порой глубинные, архетипические уровни психики: таков образ дома. И есть образы, отличающиеся интенциональной напряженностью, они связаны с поиском форм, которые призваны быть эквивалентом внутреннего содержания. Таковы художественные образы, они являются феноменами духа, осознанием неосознанного содержания психики, так как связаны с поисками специфического языка воплощения. Этот «родной дом» выявляет ландшафт внутренней жизни человека. Образ дома предстает в качестве инструмента анализа человеческой души. «Рассматриваемый в различных теоретических планах, образ дома, кажется, представляет топографию нашей глубинной сущности», - пишет Г. Башляр, предлагая называть этот метод топоанализом с печатью топофилии . То есть образ как непосредственное порождение души может раскрыть первоистоки творчества как феномена духа, и обращение к образу дома, который концентрирует всю полноту душевных и духовных сил человека, представляется весьма плодотворным. Образы дома как феномены души и духа едины тем, что благодаря воображению создают внутренние пространства человека: поэтика дома связана с проблемой внутреннего бытия человека.
Цель данной статьи - выявить на материале русской литературы феноменальность поэтического образа дома как одной из основополагающих ценностей, созданных воображением человека. В рамках данной статьи автор ограничится некоторыми ссылками на образы дома в творчестве Н. Гоголя и М. Булгакова, который является продолжателем традиций Гоголя не только в убеждении, что дом - стержень бытия, но и в конструировании художественных моделей пространства. Речь идет об образе дома как непосредственном порождении души, как о своеобразной «вспышке бытия» в воображении, получившем художественное воплощение. Следует отметить, что дом может выражаться различными понятиями, в данной статье речь идет о доме как одной из самых устойчивых констант сознания и бытия.
Дом как позитивная ценность не вызывает никакого сомнения - это психологическая и социальная первореальность. Дом, собственно, и есть «архе» - первозданность, первообиталище, первомир человека, призванный противостоять внешнему миру и защищать от его враждебных сил. Исходная феноменальность дома в том, что это «бытие во внутреннем»: человек укореняется в своем единственном «уголке мира». Эта внутренняя потребность человека не исчерпывается в социальной первореальности. Человек обживает пространство дома в мыслях, фантазиях, грезах. Уже в мифологии дом - символ порядка, защищающего от внешней опасности и, следовательно, несущего благобытие.
Дом - одна из самых мощных сил, интегрирующих чувства, мысли, воспоминания, мечты, чаяния человека, и связующим принципом этой интеграции является воображение. Для нас это пространство является исключительно притягательным, оно переживается нами со всей пристрастностью, на которое способно наше воображение. Воспоминания о внешнем мире никогда не имеют той эмоциональной тональности, что воспоминания о доме: они нас волнуют больше, чем можно предположить. Образ дома является одним из главных «феноменов психики». Он обладает необыкновенной психологической емкостью: при формировании образа дома память и воображение неразделимы.
Дом является местом, где связываются разные пласты нашей жизни, разные способы нашего восприятия и познания себя и мира. Осв. Шпенглер определил дом как самое чистое выражение породы (народа), какие только бывают; это выражение выделяет человеческие породы «собственно всемирной истории, т.е. потоки существования намного более душевного значения» . Заявив, что «душа людей и душа их дома - одно и то же», что все обычаи и формы существования, весь распорядок жизни - все находит в доме свой образ и подобие, Шпенглер отмечает: «История искусства никогда не могла освоить этой области», так как «здесь ясно и отчетливо пролегает граница между двумя мирами: миром самовыражения души и миром выразительного языка ». . Шпенглер имеет в виду то, что дом вырастает из внутренней необходимости и не является результатом творчества архитектора. Художественный образ дома «аналогичен» архитектурному. И если непосредственный образ дома является психическим событием, то образ дома как феномен духа - это художественное событие.
Воображение «играет» и создает «новую реальность». Эта игра воображения двойственная: с одной стороны, дом обитает в нас, наша душа хранит воспоминания, с другой стороны, мы живем в доме - наши мечты, фантазии, грезы «возводят стены родного дома» в нашей душе. Этот «внутренний дом» - место, где мы живем воображением, живем в мечтах, место, где мы мечтаем жить: наше прошлое располагается в каком-то другом мире, в конце концов, мы уже сомневаемся, действительно ли мы жили там, где жили, т.е. пространство и время пропитаны ирреальностью. Возникающий поэтический образ не эхо прошлого, а, скорее, наоборот: настоящее придает звучание прошлому. То есть поэтический образ обладает собственной динамикой и собственным бытием. Воображение, а не только мысль и опыт, усиливает охранную ценность реальности, которая призвана быть зачатком блаженства и благобытия. В данном случае надлежит говорить не только о ценности воображения, но и о самоценности его, так как оно непосредственно наслаждается собственным бытием. Образ дома бывает последней ценностью, которая остается, когда нет самого дома.
Образ дома как воплощение мечты о блаженном времени и блаженном пространстве чаще всего ассоциируется с детством. Детство всегда больше, чем реальность, оно остается живым и поэтически продуктивным в плане фантазий, а не фактов. З. Фрейд писал, что «неясные воспоминания детства и на них построенные фантазии всегда заключают самое существенное в духовном развитии человека» . Образ дома - это счастливое пространство, активность воображения почти не сдерживается предметной реальностью дома и смягчает внечеловеческое время, каким оно нередко бывает в реальности. Это пространство превращается в наше духовное пристанище, своеобразный духовный музей, где мы храним образы, всецело принадлежащие нам: образы дорогой и сокровенной жизни. Следовательно, это пространство ценно как место нашего уединения и нашего одиночества. Что воплощают эти образы? Чем они для нас являются и что значат? Они являются опорой или иллюзией устойчивости? В любом случае они идентифицируют человека. Мы страдаем от одиночества? Тоскуем об исчезнувшем, неудавшемся, тщетном? Это одиночество доставляет нам наслаждение? Мы предпочитаем жить в несуществующем доме, компенсируя ущербность реального бытия и быта? Нам представляется прошлое всегда лучшим, и мы тяготеем к нему в поисках блаженного бытия? Единство фантазий и воспоминаний создает образы, которые идентифицирует внутренний мир человека в его предельных ценностях. Считается, что первый дом - это мечта, а последний - это размышления. Но и эти размышления неотделимы от воображения, которое «связывает» прошлое, настоящее и будущее. Образы дома внушают нам чувство устойчивости, нам кажется, что «поселившись» в них, мы заживем иной жизнью, подлинно нашей до глубины души . Но это уже другой поэтический образ - художественный, связанный с творческим воплощением. Этот образ создает новую реальность, выражает новую сущность, он возвращает нас к «человеческой речи».
Русскими авторами много написано о роли географического фактора в становлении русской культуры, в области историософской мысли, начиная с П. Чаадаева, а в литературе с Н. Гоголя, традиции которого отражены, в той или иной степени, во всей русской литературе. Именно русские писатели почувствовали и выразили особую значимость для русской культуры пространства дома. В их творчестве дом фактически впервые предстал как одна из ключевых проблем русской жизни. Художественный образ дома в русском искусстве, прежде всего в русской литературе, если угодно, художественные исследования дома, превосходят все философские и научные изыскания. Дом в России предстал множеством художественных миров: именно русские писатели поняли и осмыслили дом как константу человеческого сознания и бытия, осознали, что с его благоустройства начинается благоустройство жизни человека и общества.
Образ дома настолько многогранно и многосторонне представлен в русской литературе, что это поистине неисчерпаемая тема. Сознательно ограничимся ссылками на творчество лишь некоторых писателей, в их числе: А. Пушкин, Н. Гоголь, С. Аксаков, Л. Толстой, И. Гончаров, Ф. Достоевский, А. Чехов, А. Белый, А. Толстой, И. Бунин, А. Платонов, М. Булгаков, В. Набоков. Художественное осмысление дома многообразно: от благоговейного отношения к дому в творчестве, например, Н. Гоголя, Л. Толстого до сакрализации его в творчестве Ф. Достоевского или А. Чехова... Чувство бездомности и сиротства - доминанта в творчестве А. Грибоедова, А. Герцена, В. Розанова, А. Платонова и других русских писателей. Но еще раз отметим особое место этого образа у Н. Гоголя. Трудно не согласиться с Ю. Лотманом, писавшим: «И, пожалуй, именно Гоголь раскрыл для русской литературы всю художественную мощь пространственных моделей, многое определив в творческом языке русской литературы от Толстого, Достоевского и Салтыкова-Щедрина до Михаила Булгакова и Юрия Тынянова» .
В «Миргороде» Гоголя трудно переоценить значение пространственных построений. Здесь Гоголь особое значение придал, при построении художественного пространства города - дома, эпиграфам, наполнив их географическим содержанием с указанием достопримечательностей, всегда интересных путешественникам. Эпиграфов два: один взят из географии Зябловского: «Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц» - и второй: «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны» , позаимствованный «Из записок одного путешественника». Лотман увидел в этом ироническое сопоставление с текстом Карамзина . Сигизмунд Кржижановский, знаток истории литературы, этой литературной категории придавал исключительно важное художественно-коммуникативное значение: «Эпиграф видится мне в образе малого лоцманского суденышка, вводящего большой корабль в гавань» . С его точки зрения, эпиграф «есть знак связи новой культуры со старой, символ международного общения разноязыких литератур, а также преемственности сменяющих друг друга литературных поколений» .
Уместно, используя выражение «знак связи», обратиться к оценке значения пространственных построений в творчестве Гоголя, высказанной Владимиром Набоковым: «В литературном стиле есть своя кривизна, как и в пространстве, но немногим из русских читателей хочется нырнуть стремглав в гоголевский магический хаос. Это мир Гоголя, и как таковой, он отличается от мира Толстого, Пушкина, Чехова или моего собственного. Но по прочтении Гоголя глаза могут гоголизироваться , и человеку порой удается видеть обрывки его мира в самых неожиданных местах» . И далее он пишет, что «если вы хотите узнать что-нибудь о России, если вас интересуют "идеи", "факты" и "тенденции" - не трогайте Гоголя. Его произведения, как и всякая великая литература, - это феномен языка, а не идей» .
В романе «Белая гвардия» две доминанты дома: печь и кремовые шторы. Печь, являясь главным персонажем в организации дома, репрезентирует тот хтонический принцип жизнеощущения, который определяет идеологию русского дома. Печь хранит дом: дает тепло, на ее изразцах следы блаженства и уюта былой жизни. Кремовые шторы - это граница пространства внутреннего и внешнего, последнее отличается враждебностью и угрозой. Психологическая емкость этого художественного мира у Булгакова особенно примечательна. Парадоксален дом в романе «Мастер и Маргарита». Садовая, 50 бис - не кров и защита, а пространство, фокусирующее бездомную среду. Под одной крышей живут разные и чужие люди, у одного жена сбежала, другой сам «пристроил» ее на сторону, жильцы исчезают бесследно. Дом всех изжил, в конце концов сам сатана вселяется в этот дом, но в него по-прежнему, как слепые, рвутся другие. Он не для жизни, - и все равно все рвутся сюда, как в пучину гибели. Об этом не думают: Босой, когда покидает квартиру, где поселился Воланд со своей свитой, вдруг задается вопросом о том, как они там оказались, ведь дверь закрыта? А потом махнул на все рукой: не хочется думать, даже если чужие в твоем доме! Необычен образ дома литераторов, который громит Маргарита. Он - казенный и стоит отдельно от остальных. Знаковой деталью представляется то, что домработницы - дома, а хозяева - «отрабатывают». Этому дому противопоставлен дом для умалишенных, здесь гораздо больше заботы, уюта и комфорта. Философская и психологическая емкость художественного образа дома будет концептуально выражена в знаменитой фразе, сказанной устами Воланда, что москвичи, т.е. русские «обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...» .
Поэтика дома отразила мечту русского человека о блаженном времени и блаженном пространстве, столь значимую для него, но в реальности не осуществимую. Русский человек компенсировал фантазией ущербность реального бытия. Поэтика дома - это модель желаемого, созданного игрой воображения, с которой связывались самые различные душевные и духовные поиски. Поэтика дома связана с поиском национальной и духовной идентичности. Это поиски душевного комфорта, духовной оседлости - их психологические и художественные грани поражают многообразием. Единство их в том, что это поиски счастливого человеческого пространства, в котором воображение отрывает нас от реальности, открывает возможность интерпретировать прошлое и обещает будущее. Творческое воображение настолько поднимает человека над жизнью, что жизнь уже не может его объяснить.
Рецензенты:
Саввина Людмила Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе Астраханской государственной консерватории, г. Астрахань.
Креленко Наталья Станиславовна, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории ИИМО Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов.
Библиографическая ссылка
Быковская Т.В. ПОЭТИКА ДОМА: ОБРАЗЫ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4.;URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=9819 (дата обращения: 06.09.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»